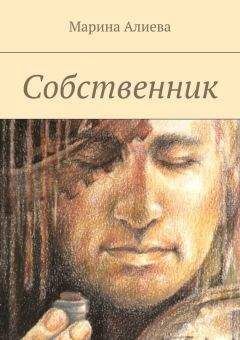Но, просматривая тетрадку раз, наверное, в третий, я обратил внимание на маленькую буковку «д», обведенную кружком. Она неизменно стояла возле строчек, замазанных так густо, что их невозможно было разобрать. Если Гольданцев это называет ссылками на дневник, то нужно быть, по меньшей мере, ясновидящим, чтобы догадаться, что «д» именно «дневник», а не что-то ещё. Однако, он не только уверен в существовании дневника, но и точно знает, что этот пресловутый дневник находится где-то в моей квартире. Откуда такая уверенность? Ходил к гадалке, или прочитал по звездам? Или.., или Гольданцев просто ЗНАЛ, что дневник существует! Ну да, конечно! Знал же он про эту тетрадку… Или про неё-то, как раз, и не знал? Думал, что в бумагах дяди остался только дневник, и никаких черновых тетрадей? Поэтому и просил отдать ему «тетрадку с записями формул»… Тогда почему он так уверен, что в описи дневника быть не должно? Выходит, знал, что записи есть, и что они спрятаны… А вот интересно, знает ли он, что спрятаны именно от него? Впрочем, я сам рассказал ему о дядином предостережении, потому он и решил – раз прячут, значит в описи ничего такого быть не должно… О, Господи, у меня сейчас мозги узлом завяжутся!
Я ещё раз просмотрел тетрадку.
Нет, больше мне в ней ничего не разобрать. К тому же, Гольданцев сам сказал, что все тут хорошо зашифровано… Вот ещё тоже несуразица! Зачем зашифровывать записи и оставлять их мне с предостережением против того, кому они не должны достаться? Или дядя не был во мне уверен, или понимал, что Коля Гольданцев, в своем фанатизме, готов на все, даже на воровство? Тогда зачем их вообще оставлять?
К тому же, как бы ни был мне неприятен Гольданцев, я не мог не признать, что явился он с предложением вполне честным. И дал мне защиту именно от воров, а только потом потребовал записи. Втирался в доверие, или понимал, что спрятанную в антикварной мебели ценность обычный вор не отыщет? Нужно быть большим знатоком, изучившим все секреты старых мастеров, чтобы знать, где может располагаться тайник, и на какой завиток нажать, чтобы этот тайник открылся… А вот я.., да, я – знаток. И в журнале «Мой дом» есть целый абзац хвастливых заверений, что в этой квартире каждая потайная пружинка мне известна. И Гольданцев рассудил очень умно: никто не обворует меня лучше, чем я сам!
Вот так я и влип.
Впрочем, в известных тайниках действительно ничего не было и нет. Они пустые! Я даже деньги туда не складывал, потому что тратил их быстрее, чем получал. А получал далеко не миллионы. Золото, бриллианты и прочие драгоценности у нас никогда не водились, за исключением старинного перстня с опалом. Но он хранился в обычном секретере, в обычной коробочке, и был завещан Василием Львовичем моей невесте…
Я глухо застонал.
Невесте…
Если Екатерина приедет уже завтра, то серьезный разговор с ней придется, пожалуй, отложить, как я отложил свой новый роман, да и книжку про Лекомцева тоже.
Сейчас самым важным стало не просто отыскать дневник, но раскопать всю эту историю с эликсирами, найти способ ничего не отдавать Гольданцеву и избавиться от него без ущерба своему спокойствию. И первое, что надо сделать – это разыскать Довгера. Он принес рукописи Галена в наш дом, он заразил его идеями Олега Александровича, он же, фактически, всех и погубил, а потом бесследно исчез! И, если он ещё жив, то на всей земле не найдется кто-либо, лучше, чем он, осведомленный в тех давних делах.
Я бросился к антресолям, где валялась старая телефонная книга. Фамилия Довгер была записана четвертой на страничке под буквой «Д». Тут же, в скобках, указан день его рождения и адрес. Очень хорошо! Если по телефону никто не ответит, поеду прямо домой…
Но, увы, делать этого не пришлось. Юношеский голос на том конце провода печально сообщил, что Соломон Ильич недавно скончался.
– Как скончался?! – забыв от разочарования про всякий такт, воскликнул я.
– Да, он болел… А кто его спрашивает?
– Теперь это уже неважно.
Я повесил трубку и задумался.
Смерть Довгера закрыла последнюю дверь в прошлое, и отныне мне оставалось только перевернуть квартиру вверх дном в поисках дневника и надеяться, что хотя бы в нем будут не одни формулы.
Далеко за полночь, или даже скорее ближе к утру, я упал, не раздеваясь, на диван и заснул мертвецким сном.
Квартира походила на стойбище каких-то беженцев. Все вещи и книги вывалены из шкафов на пол, кухонная посуда горой накрыла плиту и стол, а мебель сдвинута с привычных мест, чтобы удобнее было подбираться к задним стенкам…
К несчастью, погром ничего не изменил в моем положении. Дневника не оказалось ни в одном из тайников, как не оказалось двойных стенок у шкафов, комодов, и даже простукивание столешниц ничего не дало – сплошной монолит.
В коротком сне мне привиделся Гольданцев.
Он прорывался сквозь пол в клубах зеленого дыма и кричал с диким хохотом: «А ты, небось, думал, что в твою квартиру только через дверь попасть можно?». При этом звонил, почему-то, в какой-то колокольчик.
Постепенно звук колокольчика трансформировался в обычный звонок, и я, вырвавшись из кошмара, сообразил, наконец, что это надрывается мой телефон.
Трубку схватил машинально, но, когда подносил к уху, запоздало подумал, что в такую рань звонить мне могут только Гольданцев или издатель, а ни тому, ни другому сказать было нечего. Однако, прохрипел сонно:
– Да, я слушаю.
– Аллё, – замешкался в трубке немного дребезжащий женский голос. – Это с кем я говорю?
– А куда вы звоните? – протирая глаза, спросил я в полной уверенности, что дама просто ошиблась номером.
– Я звоню в квартиру Калашникова Василия Львовича. Мне нужен его племянник – Саша Широков.
– Я слушаю.
– А…
Женщина, похоже, была удивлена.
– Здравствуйте, Саша, – неуверенно продолжила она после короткой паузы. – У вас что-то с голосом. Вы, наверное, спали. Я вас разбудила, да?
– Нет, нет, ничего. С кем имею честь?
– Ох, простите! Я Паневина, Валентина Георгиевна. Мой муж, Алексей Николаевич часто бывал в вашем доме. Вы его помните?
– Да, да, конечно.
– Сашенька, – то ли облегченно, то ли, наоборот, обеспокоено, заторопилась Паневина, – мне срочно нужно с вами увидеться и поговорить. У меня недавно несчастье произошло… Только вчера выписалась из больницы… Там все время думала, и вчера всю ночь не спала… В общем, я решила, что настал именно тот момент, когда мне следует отдать вам дневник Василия Львовича, как он и просил…
– Что?!!! – заорал я, отчаянно надеясь, что все это наяву, а не в продолжении сна. – Дневник дяди у вас?! Господи, я же сегодня ночью всю квартиру перекопал, отыскивая его!
– Так вы знаете о дневнике? – в свою очередь изумилась Паневина.
И тут же голос её резко поменялся.
– Кто вам сказал? Гольданцев? Он уже был у вас, да?
– Да, – пролепетал я, ошеломленный требовательностью её тона.
Такой металл в голосе мог быть только у следователя в застенке, но никак не у пожилой дамы.
– Вот что, Саша, – решительно произнесла Валентина Георгиевна, – немедленно собирайтесь и приезжайте ко мне. Слышите? Немедленно! Адрес я вам сейчас продиктую.
Я выхватил из кучи вещёй на полу какую-то бумажку, дотянулся до карандаша на столе и, прижимая плечом выскальзывающую трубку, записал, куда ехать и каким транспортом. После этого, безо всяких прощаний, Валентина Георгиевна свою трубку положила, а я помчался в ванную смывать с себя ночную пыль.
Через пол часа, кое-как умытый и одетый, уже трясся в маршрутке, проклиная медлительность водителя и светофоры.
Паневина встретила меня в строгом темном платье с сурово поджатыми губами.
– Проходите, – бросила она и первая прошла в комнату.
Квартира оказалась именно такой, какую я и ожидал увидеть – типичное логово старого антикварщика. Потертые бархатные шторы, неизменный фикус в углу, не такая шикарная, как у нас, но тоже старинная мебель и обязательный круглый стол под скатертью с бахромой. На стенах, как водится, картины, из которых одна сразу приковывала к себе взгляд. Небольшой портрет очень эффектной женщины стиля «вамп». Выполнен он был в старинной манере, но явно изображал саму Паневину, только гораздо моложе, чем теперь.
– Садитесь, – велела она, указывая мне на стул с подушечкой.
Сама же опустилась в глубокое кресло, спиной к окну.
«Интересная дамочка», – подумал я, разглядывая Валентину Георгиевну. Сначала, по телефону, показалась какой-то неуверенной старушкой. Но теперь, при ближайшем рассмотрении, выходило, что металл в голосе и приказной тон идут ей больше, чем старушечья неуверенность. Порода проступала во всем – в осанке, в форме головы и чертах красивого тонкого носа. О таких, как она, в романах обычно пишут: «дама со следами былой красоты». И эту «былую красоту» очень красноречиво подтверждал портрет на стене. Да ещё этот избитый женский трюк – сесть спиной к окну… У неё он выглядел совсем не нарочито и говорил о многом.