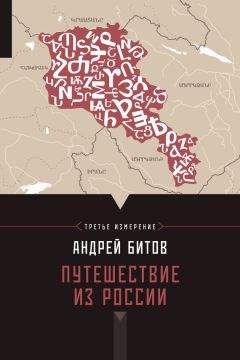И вот уже нет меня – счастье одно. Это я – «в кандалах», это я «кого-нибудь зарежу», а «сердцем – чист». Роняю слезы в щи. Или:
В горнице моей светло,
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды…
Какое же поразительное уродилось на этой сырой земле слово! Русский человек – он весь в слове. Весь в слово вышел.
В слове великое утешение и великая беда – слушаешь песню, гениальное слово – и растешь, и ширишься, и это уже твой гений и словно из тебя исходит великое слово, и ты велик, действительно – велик! Оборвалась песня – шлеп на землю. Тупой, глупой, варежка. Выпить, что ли? Разве есть еще хоть один такой язык! Этот язык и есть наша родина, что за глупые вопросы!
Но безмолвствует, пышно чиста,
Молодая владычица сада:
Только песне нужна красота,
Красоте же и песен не надо.
До чего же хорошо поет сегодня Рогожин!
– Дудки! – кричу. – Есть мы, нет нас – какое кому дело! Мы всегда возникнем! – кричу я. – Просто у них нет больше истории. А у нас все еще история! Большая переменка между уроками истории, как сказал мой великий друг.
И прочее безобразие.
До чего же удивительно русское слово – безобразие. Без образа. Образа нет.
Так и живу я в этом утре по сей день. На коленях кастрюля щей, слезы в щи капают. Передо мной три отрока русых и белокурых – летят три пичужки через три пусты избушки; за окном лужок и березы, белейшие, высоченные; небо над этим самое высокое, и патриаршая церковь на пригорке горит от ранних лучей, как печатный пряник… Гениальная песня, гениальные слова, гениальный певец и гениальные слушатели… И больше – всё. Ничего. Слово – моя родина.
Перемена
Все написал. Даже виньетку в конце пририсовал в виде первого русского впечатления. Так сказать, приехали… Думал – конец. Как раз нет. Тут-то все и начинается.
Пришлось мне мою «виньетку» вычеркнуть… А ведь все так и было! Только прилетел – попал в объятия, и выпили мы славно, и поговорили на родном языке наконец! И со своим восклицанием о родине русской – слове – я до сих пор согласен. Но не стоило мне рисовать эту виньетку, не надо было ввязываться.
Ничего не сказать о возвращении – было бы неправильно, но сказать мало – оказалось еще хуже, а если больше сказать – то сколько? И почему именно столько? Всего не напишешь.
И при чем тут тогда Армения окажется?..
Сразу же потребовалось оговориться даже по поводу этой сценки, потом уточнить оговорку и приписать еще сценку, чтобы объяснить уточнение… Подправить, добавить, уточнить.
И снова объясняться, оговариваться, оправдываться. Все как в «безумном чаепитии»: «Хочешь еще чаю?» – «Больше не хочу». – «А меньше хочешь?» – «Нет». – «Значит, хочешь больше?»
А потом вдруг, сразу же – взглядом не охватить, мыслью не обнять – так много… С чего начать? С этого? С того? Почему же с того?!
И мало – плохо, а много – еще меньше.
Наступает немота. Это – родина…
Даже описывать события, лишь как они происходили, лишь в естественной последовательности времени, – нельзя оказалось на родной земле, неправильно… И чуть ли не ложь. Словно все, что вокруг и сейчас, – это случайная и бессмысленная цепь, будто, может быть, и нет этого ничего, что видится, а есть нечто главное, глубинное, чего так не видно, а надо увидеть. И вот когда увидишь – это и будет правда, только ее пиши! Родина. Немота.
Слишком уж был я опьянен естественной точностью и логикой нарастания впечатлений в Армении, слишком уж уверовал в метод. Казалось, продолжай так, день за днем, только бы не терять высоты, по инерции набранного чувства и мысли – и будешь забираться все выше и выше, и стройная твоя линия затеряется в облаках, так нигде и не погнувшись, не сломавшись… Но нет, тут была остановка и обрыв, а на краю обрыва стоял отчий дом. И это было уже не путешествие, где цельность и точность картин связана именно с их мимолетностью, а прозрение – с неведением… Сама твоя жизнь пододвинулась вплотную – и ничего не видно. Хочешь не хочешь – гляди ей в родное и вечное, опостылевшее и любимое лицо. И вид из окна не передвинется, и имя твое не переменится, мать и отец у тебя всегда будут те же и твоим именем тебя назовут, а лет тебе на этой земле не убавится, а прибавится. Тут другая логика, другой метод, иное течение речи. В движении – откуда взяться фантазии? Впечатления… А тут и фантазия заработает, как только приостановишься и постоишь с минутку на родном дворе. Ибо что может быть фантастичнее обыденности и банальнее новых впечатлений? Ибо тут уже иное качество любви и боли, иное качество знания – и как поведаешь в мимолетных картинках о том, что есть твоя земля, твой дом, твой язык – что есть ты? Тут и споткнешься, и замолчишь, и замычишь, крутя головой от бычьей бессловесной муки, с глазами, красными и кроткими от любви, упрешься в забор. Родина. Немота.
А может, метод счастливо-легкий тот неверен и в отношении Армении, раз неверен он в отношении родины? Я пробыл в Армении десять дней – и написал книгу, а за десять тысяч дней пребывания в России – ничего подобного не написал.
Но это уже попытка точности с перебором, 101 %, так сказать. Я не армянин, чтобы испытывать его немоту. Это первая оговорка, их – тьма…
Вот – другая.
Пропущенный урок[8]
Мне было тогда тридцать, советская власть вся готовилась к своему 50-летию; русскому христианству еще не было тыщи, а армянскому полторы тыщи уже было… Всё было моложе, не только автор, но и век. XX век был тоже моложе.
Это сейчас были уже Карабах и Сумгаит, и землетрясение, а тогда Армения ничем таким не отличалась от других республик в глазах непосвященного – только на каждой витрине в Ереване была цифра «50», без всякого комментария, в пальмовых веточках – единственное, что было доступно мне по-армянски. Да и потрясений никаких, кроме того что Никита Сергеевич продал на валюту запас коньячного спирта, казалось, Армения не испытала. Страна потрясла меня как другая, не Россия. Я никогда еще не бывал в другой стране.
Так вот о коньячном спирте… Не знаю, сумею ли я сформулировать этот закон, имеющий, кажется, даже математическое выражение… Что для качества нужно количество. То есть, чтобы производить, скажем, тысячу тонн коньяка, коньячного спирта нужно не столько же, а в десять раз больше. Это же нелогично! Держать без всякой пользы золото, когда его можно потратить… Точно так рассудил и вождь, и я рассуждал бы так же. Но знаменитый армянский коньяк заболел дефицитом от такого оскорбления.
Мы сидели с друзьями под виноградом. Он свисал с деревянной решеточки, образуя нам тень, пока вокруг плавилось армянское солнце и поспевал в жаровне уголь для шашлыка.
– Видишь, – сказал мне друг, когда к столу, в ожидании шашлыка, были поданы не виданные мною голубцы, крошечные, темно-зеленые, которые следовало поливать простоквашей. Но простокваша была «мацун», а голубцы – «долма», ибо завернуты были не в капустный, а в виноградный лист… – Видишь, – сказал он, – ничто так не отдает себя целиком, как виноград. Его можно есть, – он сорвал виноградину, – его можно пить, – он пригубил коньяк, – в тени его можно сидеть, лист его идет на долму, и даже, когда он умрет, его можно сжечь…
Вокруг валялись виноградные дрова – тоненькие и корявые. Они дают самый жаркий жар. Что лучше всего для шашлыка.
– Ничто не используется настолько полностью, как виноград, – сказал мой друг. – Разве что женщина при социализме.
Это была шутка. Компания была исключительно мужская.
Коньяк, разговор, шашлык и песня – все поспевало одно за другим, в неторопливой последовательности юга. Глаз покоился на библейско-медитаранском пейзаже. Спешить было некуда, потому что – не надо.
Я ничего не ждал, и все было подарком.
Один симпатичный человек жарил и подавал шашлык, другой – музыку.
Он выходил застенчиво, восторженно приветствуемый моими армянскими друзьями. Он доставал из большого футляра маленькую дудочку, длиннее свистка и короче флейты. Она вся была унизана золотыми кольцами – оказалось, подарками от поклонников. Это был великий Рачия! Я еще ничего не ждал.
Свирель его называлась «дудук». Дудка это и была.
И вот первый звук.
Это не перед плачем и не плач. Это – после плача. Это, если помните, как в детстве. Когда от горя наступает согласие с миром, и все ясно. Ясность эта больше слова. Она и есть слово. Непроизнесенное, потому что не надо. Понимание. Счастье. Принадлежность и неотделимость. Отсутствие себя. Равенство с миром. То есть не знаю, что еще. Вы понимаете.
Не сразу я разглядел за спиною этого маленького и кругленького гения, лучащегося простоватостью и добротой, – другого – огромного, черного, свирепого человека, незаметно доставшего точно такую же дудочку (но без золотых колец) и начавшего ровно дуть в нее, вытягивая одну и ту же ноту на непрерывном дыхании своей непомерной груди.