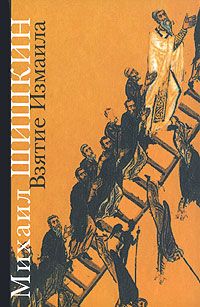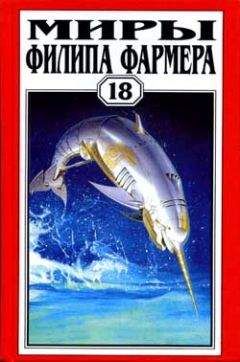Маша говорила Юрьеву о Жене, о том, как им трудно вместе, потому что он добрый, умный, очень одаренный, однако при этом тяжелый, раздражительный, беспокойный, неуютный, но она все равно счастлива с ним. Потом опять принималась жаловаться на мужа, что он мелочен, капризен, придирчив, много ест, нечистоплотен. Иногда ей казалось, что Юрьев не слушает ее, думает о чем-то своем, но Маша почему-то не могла остановиться и рассказывала, как когда-то давно, вскоре после свадьбы они поехали на юг отдыхать и снимали комнату в Пицунде в большом деревянном доме в пяти шагах от моря, их комната была заставлена четырьмя кроватями, и кособокий, неуклюжий дом просто распирало от таких комнаток, заставленных продавленными панцирными койками. Хозяин был старый грузин, иссохший, наверно, чем-то больной, с тощими узловатыми ногами, покрытыми синими шишками. Его внук, скучавший на верхней террасе, болтая над Машей грязными босыми ногами, прицеливался из пластмассового пистолета в окно соседнего дома и говорил, что, когда вырастет, перебьет всех абхазов. «Но почему?» – спрашивала Маша. «Потому что это не люди», – отвечал мальчик. «А кто же они?» – недоумевала она, удивляясь, откуда в таком маленьком человечке уже столько злобы. «Абхазы», – говорил мальчик, стреляя заодно и в Машу. Каждый день они ходили на пляж и проводили там почти целый день, жарясь на солнце, а когда становилось невмоготу и казалось, что волосы вот-вот вспыхнут, лезли тушить себя в воду. Женя брал с собой толстую английскую книгу и два тома словаря и читал, закутав голову майкой, как бедуин, и надев черные очки. Чуть ли не из-за каждого слова он копался подолгу в словаре и что-то записывал в толстую тетрадь, потом, сморенный жарой, засыпал. В черных очках отражалась галька и время от времени чья-нибудь нога в резиновых шлепанцах. Отдыхающих было много, полотенца и одеяла расстилались плотно, почти впритык друг к другу. Над головой все время ходили. Пахло вареной кукурузой, которую продавали из ведер, прикрытых тряпкой. Обгрызенные кукурузные кочерыжки бросали просто на камни, и ими кормились тощие коровы и огромные, не меньше коров, свиньи, бродившие утром и вечером по пляжу. Очнувшись, Женя шел в воду, окунался у берега и снова принимался копаться в своих словарях. На солнце бумага быстро выгорала, и вечером становилось заметно, как пожелтели за день страницы. Маша видела, с какими ухмылками окружающие смотрели на Женю, и ей было неприятно, но старалась не обращать на них внимания. Иногда ей тоже хотелось побежать по раскаленным гладким камням к соснам и играть в волейбол с черными от загара, красивыми, мускулистыми молодыми людьми и стройными, легкими, ловкими девушками, потому что она в школе тоже когда-то хорошо играла в волейбол, или заплыть куда-нибудь далеко за буй, потому что она хорошо плавала и не понимала, как это можно утонуть – ее волна выпихивала, как шарик от пинг-понга, но Женя не играл в волейбол и не плавал, только плескался у берега, не заходя на глубину, и она оставалась лежать с ним, перебирая руками камушки, живые в воде и на глазах умиравшие на солнце, собирала в пучки длинные сухие иголки, падавшие с пицундских сосен, и глядела на ленивый знойный прибой, почти невидимый за безногими, бюстами, головами. Шум моря был едва слышен за гомоном, криками, музыкой из пляжной палатки, футбольным репортажем по радио. Еще на пляже через каждые двести метров стояли вразвалку кабинки для переодевания, в них густо пахло мочой и во все щели были заткнуты куски побуревшей ваты. Везде было много людей, и в доме, упиханном кроватями, и на пляже, выложенном телами, и на черноволосом рынке, где все толкались и нужно было крепко держать в кулаке кошелек, и в столовой, в которой спертый воздух звенел от мух и все наступали в разлитый по цементному полу борщ, и Маше казалось, что единственное человеческое во всем этом людном гаме – море, но только подальше от берега, где уже не было ни водных велосипедов, ни надувных матрасов, ни плавающих голов. Умывальник был на дворе, к нему вела дорожка, на которой валялись раздавленные ягоды, нападавшие с шелковицы, и гниющие абрикосы. От умывальника женщины ходили в уборную, неся перед собой кружку воды, и Маша тоже носила в кружке воду, идя мимо стола под виноградным навесом, где пили вино и водку мужчины, играли в нарды и смотрели на нее. Она отворачивалась и глядела за забор или на облака и горы, ей было отчего-то стыдно, хотя другие женщины, проходя мимо стола, смеялись, и шутили с мужчинами, и кричали что-нибудь озорное и веселое, делая вид, что сейчас выплеснут воду из кружки на них и обольют и стол, и нарды, и мужчины тоже смеялись, озорно и весело, и во всем этом не было ничего постыдного. В покосившейся уборной, сколоченной из сизых от времени и непогоды досок, пол скрипел, прогибался, и было страшно, что он вдруг треснет, а в неровно выпиленной дырке, совсем близко, может, на расстоянии руки, шевелилась жижа, это были какие-то белые черви, как разваренная вермишель. Один раз они ходили в Леселидзе за вином, им дали адрес одной абхазки, которую все называли старухой Изергиль. Пока старуха наливала в бутылки вино, ее сын, толстый, веселый, в наколках, угощал их хачапури и рассказывал, как накануне пьяный грузин на машине задавил ребенка. «Вот увидите, – сказал он, – придет день – и здесь ни одного грузина не останется. Ни одного!» В соседнюю комнату поселились две налитые голосистые харьковчанки, которые так обгорели в первый же день, что кожа с них сходила, как пленка. Они для того, наверно, и приехали на юг, чтобы каждый вечер с кем-нибудь совокупляться, и потом, в комнате, делились подробностями, хохоча и матерясь – сквозь тонкую перегородку все было слышно, и каждое слово, и как встряхивали с простынь песок, принесенный с пляжа, и как, намазываясь кремом, звонко шлепали друг дружку по ляжкам. Перед тем как заснуть, Маша прижималась к Жене, чувствуя под губами его соленую от морской воды кожу, и думала о том, какое счастье им было дано в жизни найти друг друга в этом помойном, засранном мире, где правят сперма и злоба.
– Да вам деток нужно, Мария Дмитриевна, – вдруг сказал Юрьев, – деток. И все тогда будет хорошо, все будет славно. Детки успокоят, дадут то, что никто не даст.
Маше захотелось рассказать о той зимней ночи, когда заболело, будто снова начались месячные, только, может, немножко сильнее, и вышло совсем немного крови, и это был их с Женей ребенок, и о том, как Женя понес на улицу то ведро с помоями, о враче, который подбрасывал в печь дрова и теми же руками, не сполоснув их, стал обследовать ее, полез пальцем, обмакнув его в вазелин, о том, что детей у нее не будет, не может быть, но подумала, что все равно этого не расскажешь, не объяснишь, да и зачем.
О том, что Д. лежит в городском саду на подорожниках рядом с затоптанной поколения назад клумбой, обливаясь кровью и взывая о помощи, сообщила бывшему помощнику прозектора М., каким-то образом встретив его на аллее, утонувшей в запахе ночных фиалок, значит, было достаточно поздно, потому что оркестр, в котором толстая труба ухала вкусно, ушел, отыграв свое, в казарму и солдаты уже построились к вечерней молитве, дивные слова которой теряются в розовеющем небе, мешаясь с шепотом листвы, ведь в этот тихий закатный час благодарят Господа за щи да кашу и просят дать им пожить еще немного все воины России, некая девица иудейского вероисповедания, что нередко случается в романах, проходившая свидетельницей по названному делу, черномазая, клювоносая, пугливая. Соня, назовем ее так, скрыв в интересах следствия истинное ее имя, ибо кто из нас знает свое истинное имя, если аз есьм сый, то и вы – сый, и она, и вот это пресс-папье с ручкой-яичком – тоже сый, показала на допросе, что знала Д. давно, уже несколько комариных лет и гриппозных зим, состоя с ним в должностных сношениях, исполняя обязанности заведующей библиотекой, в которой уже давно все разворовали, а то, что есть, изорвано, истрепано, изрисовано гениталиями, и она что могла спасти, спасла, перенеся к себе в комнатку, которую снимает в избушке на курьих ножках, где постель льдиста, а в окне бысть облак огнен распростерт. На вопрос, как она познакомилась с истекающим кровью и взывающим о помощи, свидетельница ответила, что не помнит, пытаясь, разумеется, отпереться запамятливостью и грузом прошедшего с той застуженной минуты времени.
– Да ничего особенного, честное слово! – промямлила Соня. – Холодно было, мороз, набросила на себя все что могла, сидела целый день в шубе, хотела чаю заварить, да кипятильник сломался.
Разочарование в зале – читаем дальше в скобках запись ремингтонистки. Вот если бы вы, голубушка, ехали на лошади и та, взбесившись, погнала бы, а он ее под уздцы, спасши вам череп и жизнь…
Да и Д. подумал однажды о том, вспоминая далекий день, когда шел мимо поваленного снегом забора с зарослями ржавой колючей проволоки, которая каждое лето цветет вьюнками и когда-нибудь принесет плоды, а другая часть забора, что ближе к шпалопропиточному заводу, уже два года в бегах, и в первый раз постучался к ней в библиотеку, что если он действительно лишь действующее лицо одного русского романа, то встреча героя и героини могла бы произойти как-то поромантичнее, что ли, где-нибудь, например, в банной мгле санпропускника в Карлаге, он, например, фельдшер, отвечающий за борьбу со вшами, в мокром, прилипшем к спине и животу халате, она – голая, прикрывает свои обвисшие тряпочки и свой никому не нужный бритый срам и говорит, потряхивая завшивленной головой, бормочет сквозь зубы, не надеясь быть услышанной: «Хоть волосы оставьте! Все отняли, мужа, сына, ничего больше нет – хоть это оставьте!», а фельдшер, отлепляя от спины и живота мокрую ткань, успокаивает: «Да зачем тебе волосы, дура, только морока – утром будут к нарам примерзать, придется отдирать по прядям, а так отрежем – и будет легко, свободно!» Или, например, он – красавец, обгоревший танкист, товарищи спасли его из подбитой машины на окраине Грозного, а она, допустим, ни рожи ни кожи, моет полы в госпитале Бурденко, и вот оба одинокие, потерянные, нелюбимые, она моет под его кроватью и смотрит на фотографию на тумбочке, каким он был до исполнения долга и каким уже никогда не будет, потому что глаза сгорели, и уши, и многое другое, одним словом, еще только петь может, вот лежит и поет, а она приходит послушать, потом они женятся, и она возит его в метро в кресле на колесиках, и он держит в руках ту фотографию и поет, денег собирают немного, но на жизнь хватает, во всяком случае больше, чем ее зарплата и его пенсия. Или еще что-нибудь в том же роде. И пусть это, конечно, ходульно, книжно, подумал Д., но все лучше кипятильника.