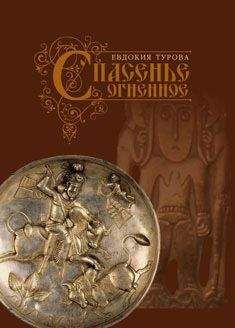Матренин починок как раз бегуны поставили. Наверняка, и Туровы пришли сюда в поисках счастливой земли, только уже забыли об этом. И книги бегунов соблазнительные Филипп Логинович читать сыновьям не позволял. Говорил Филипп Логинович бегунам: «Грех это – рай земной искать, рай только мыслен, так Господь-то сказывал». А оне перечат: «Разе тебе это Господь сказывал? Это люди сказывали. А люди и соврать могут. У нас книга есть про странствия купцов новгородских Мстислава и сына его Иакова. Буря долго по морю их ладьи носила и прибила к высоким горам. «И видел на горе той: Деисус написан лазорием чудным, не человеческих рук творение… И на горах тех ликование и веселие, гласы вещающие». Это разе не рай? А чё тогда?!»
– Вот и поговори с имя, вот и возьми их за рупь сорок, бегунов етех, – так в сердцах говаривал Филипп Логинович.
А Маркел, старший сын Филиппа и Доси, отравы соблазнительной у никудышников нанюхался, в Заболотове они долго жили, никудышники. Никудышник любого в соблазн введет. Наплетет с три короба, только слушай. И про землю Офирскую, и про страну Макарию, и про град среди моря Веденец. Столь, мол, Божия земля чудна, что, сколь ни гляди, око зрением не насытится. Чё ему, никудышнику: мешок сухарей за спину – и пошел. И карты Маркелу показывали. Староверы еще с новгородских времен тут весь край стежками-дорожками покрыли, как муравьи лесные. И все пути там, гляди, Маркел, все, как есть, прописаны: дойдешь до Михайловского скита, там спроси, как до Изосимовского добраться. В Изосимовском скиту тебе дадут проводника до Сергиевского починка дойти, а уж оттуда мужик Терентей до места доведет, где знающий мужик Иван живет, он дальше поведет. Чужой ничего не узнает, а свой хоть куда дойдет: от скита к скиту, от деревни к деревне и дале – хоть куда. Может, сгинет где, а может, и впрямь узрит чудеса земные. Маркела соблазнили идти в царство Индийское к людям-рахманам. Маркел и говорит тяте: тутока, мол, в Мудомоях у меня пашня недостаточная, и покос мне не глянется.
Никудышники весной ушли, а с ними и Маркел…
– Не читай, Гринька, спятишь! Иди, дров натаскай да огреби сарайку, вечор бураном надуло. Сказала, положь книгу!
Делать нечего, накинул Гришаня шубейку, сунул ноги в старые подшитые валенки. Ни единого слова не дала прочитать бабка Анна. Караулит книгу «Библию» по целым дням, чтобы лежала под божничкой на полке и никто бы ее не трогал. А книга, главное дело, не простая. Тамока, тятя сказывал, про все рассказано. По слову Господа писана, дак уж ясное дело, все, как есть, представлено. Разе Господь зря станет говорить-то?
Читать Гришаня еще с прошлой зимы освоил. Учитель приходил. Два мешка ржи тятя отдал за зиму-то. Наловчился Гриша буквы разбирать в псалтыре. Дак то псалтырь, людьми писано. Другое дело – книга «Библия». Про все бы тамо-ка Гриша узнал: почему солнце заходит за Матрениным огородом, а встает вовсе в другой стороне – за речкой; почему зимой стужа; как дождь происходит; как Бог нас всех видит?
Вечером вернувшийся из леса тятя Филипп Логинович навесил замок на черные застежки книги, а ключ привязал себе на гайтан. Не по силам человеческому уму постигать Господни слова, так староверы думали. Убеждены были, что, если Библию до конца прочитаешь, умом непременно тронешься.
– С завтрева в найм поедем с тобой, Гриша. Дорогу большую тутока прорубают. Михей из Агеевки сказывал даве, наймуют мужиков на вырубку и расчет дают в тот же день.
Гриша вырос в парня спокойного и работящего. Невесту такому добру молодцу высватали в Заболотове, в богатой семье, красавицу Вассу Сальникову, статную, фигуристую, с румяным круглым лицом. Сальниковы, родня Вассы, торговали маслом, имели жомы для льняного семени и маслобойки для масла коровьего. Богатеть начинали, и девки уже щеголяли в покупных юбках. Жить вот только Вассе десять лет пришлось со свекрами, солдаткой, с малым сыном, которого и отец его Григорий не видел. По деревням раскольничьим набрали в рекруты самых видных парней, срочно, вне всякой очереди, и увезли в Пермь.
…И вполне возможно, был о Грише такой разговор двух генеральских дочек, живших в уездном городе Перми:
– Ирина, вели чай подать. Почаевничаю да поеду. Ах, сестрица, как хочется в Москву! В Москву, в Москву! Все же дикие здесь места. Даже простой народ совсем не такой, как в Москве. Я их боюсь. Мужики громадные, ручищи длинные, а говорят так, что и не поймешь. Как из бочки.
– Ты, Маша, не права. Наш народ – святой страдалец. Но сколько еще предстоит работы, чтобы принести свет знаний в эти темные души! Вот только что рекруты новые у нас в саду листья прошлогодние сгребали, отец прислал порядок навести к моему рождению. Один рекрут – парень молодой, здоровенный. Я мимо проходила с книгой. Так он в книгу эту прямо глазами впился. Я учусь разговаривать с народом, спрашиваю его: ты, мол, откуда? Из деревни Верхние Кизели Оханского уезда. И все на книгу косится. Он книг, похоже, боится, никогда не видал, наверно.
– Тут у них по деревням все раскольники, совсем народ дикий. И что ты, Иринушка, можешь дать этому человеку?! Не знаю, не знаю. Сама подумай, зачем ему книга? Отец говорил, эти рекруты ждут баржу до Нижнего. Ах, как здесь тоскливо…
– Ты, как всегда, не в настроении, Маша.
– Право, сестрица, чем о раскольниках рассуждать, давай-ка чайку попьем.
Эти генеральские дочки, скорее всего, Москву увидят лишь в эмигрантских снах где-нибудь в Париже, Константинополе или в Америке. А здоровенный, статный крестьянский парень Григорий уехал как раз в Москву, вместе с другими молодыми рекрутами-раскольниками из Перми и Нижнего Новгорода, чтоб в охрану встать на государевой коронации. В столицах тогда свирепствовал террор, бомбисты. Никому веры не было. Набрали парней из самых глухих деревень, за неимением времени обучили только навытяжку стоять. Расставили густо, как столбы, перед собором, не велели даже моргать, когда царская семья выйдет. На этих парней можно было положиться, их не подкупить, идей опасных в головах нет, а на чем старовер крест поцелует – не сдвинешь. Домой Гриша написал письмо, чтобы знали, что жив. Так и так, царя видел, вот как, бывало, тебя, тятя.
Так и отслужил десятилетнюю армейскую повинность кремлевским охранником, стоял и во дворцах, и в оцеплении после коронации. Умом от столичной роскоши Гриша не тронулся, глядел кругом с интересом. Хоть и тосковал о семье, молодой жене, а глядеть хотелось. Не наполнится око зрением; видно, кто-то сверху слышал мысли его и желание знать, где и как живут люди и что придумывают. Фотографию, например, придумали. Так бы жизнь прожил и не знал, что он такой добрый молодец, кабы на карточку не снялся!
Домой писал: «Трудного ни в чем не нахожу, только в том, что воля не своя… Пропишите, ходит ли к нам по вечерам любезный дяденька Александр Филимонович. Благодарю их и низко кланяюсь. Бог привел увидеть здесь многое, чего бы дома не пришлось увидеть никогда. Например, я здесь был очевидцем полетов на аэроплане, всего от наших казарм 40 шагов, где он поднимался. Мертвые петли в воздухе делал. Когда смотришь, становится страшно, что вот-вот упадет и разобьется насмерть. Привезу книги, иконы, шаль жене Вассе. Выучим детей и выведем в грамотные люди».
Шесть десятков с лишком лет Филиппу Логиновичу. Силен еще, а уже хочется на сыновей опереться. Не на кого опереться. Маркел ушел, Григорей в Москве. Что с ним, с Филиппом, случись, как семье жить? Нет, какой ни есть, а последыш Тимка в семье работник. Из рук ничего не падает, топором так разрубит еловый ствол, что торец блестит, как зеркальный. Сила немереная гуляет, что ты с ним поделаешь.
Подождем Гришу из Москвы, а там и женим Тиму-молодца. И обломает его крестьянская жизнь, уймет молодая жена. Так думал Филипп Логинович. Но так не получилось. Беда стряслась в доме старшей дочери Анны. И Тимку туда, в беду эту, тоже, как нарочно, кто сунул.
…На прошлый Покров день Анна Филипповна и Михайло Терехины женили сына. Какая-то невеселая была свадьба. Хоть все сделали по чину: и сговор, и рукобитье, и пропой невесты. И дом небедный у Терехиных, а гости все так себе, неуважаемые какие-то гости. Мелкота деревенская, которой только поесть да бражки попить. Да косточки хозяевам перемыть.
– Ето чё, ето чё, родня с жениховой стороны не пришла, Михайловы-те братовья. Никого нету. Далеко ли идти, все по починкам, недалеко. И у самой-то у Анны только сестрянка из Дубровы приехала.
– Ну, чё, считай, Анна теперя хозяйка туто. Как самой-то не стало, Домны.
Анна Филипповна и в самом деле смотрелась хозяйкой. Наконец-то она сама станет решать, как жить и что делать. На поздний Спас похоронили свекровушку. Двадцать лет жила Анна под свекрухой. Шагу не ступи без позволения. Семья держала курень, жгли зимами уголь на продажу. Как управятся с уборкой, съезжают всей семьей в лес, в маленькую избушку. Лес валили, на чурбаки пилили, ставили курени – засыпанные сверху землей кучи чурбаков. Как снег падет, курени запускали. Надо было, чтоб не горело, не прорывался верховой огонь, а медленно тлела внутренность куреня. Денно и нощно нужен пригляд. Дым, сажа, все в копоти. Молитва – работа – молитва – обед – молитва – работа – молитва – сон. Прогоревший курень надо разобрать, уголь в коробья загрузить да по санному пути свезти в Оханск на пристань. И так-то всю зиму. Двадцать лет, не разгибаясь.