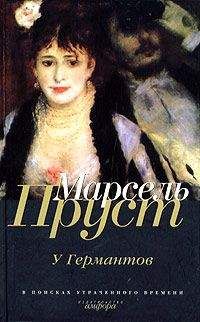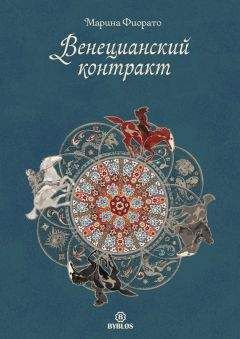– Добрый вечер, в студии Карина Левонтина. На этот раз мы встречаемся с вами в Венеции, накануне аукциона Кристи, – скороговоркой сказала интервьюерша в больших черепаховых очках, самолётная попутчица Германтова, которую он до этого много раз видел и на телеэкране.
Он даже обрадовался ей, визуальной знакомой.
– На торги выставлены раритеты и бумаги умершей недавно Дианы, – заглянула в бумажку, – Мочениго, венецианской аристократки русского происхождения. Архив её, собиравшийся много-много лет, был существенно пополнен в советские годы, в середине семидесятых, когда после кончины в Ленинграде Ольги Николаевны Гильдебрандт-Арбениной, близкой петербургско-петроградской подруги Дианы… Ах, – всплеснула ладонями Левонтина, – какие женщины были рождены Серебряным веком! Но мы сейчас свяжемся по скайпу со штатом Иллинойс, с тем, кто…
Шорох помех, взбаламученность экрана, затем – мелькания, из которых…
– Это Марк Гилман? Приветствуем вас, Марк, – страстно блеснув очками, – вы слышите нас?
– Слышу, слышу и вижу.
«Чудеса! Это же он, он, Марк Гилман, когда-то редкие запретные книги от Кузьминского и Элинсона притащивший мне в большом рюкзаке, а потом», – Германтов уже вспоминал Аню, расспрашивавшую его о «Зеркалах» Рохлина, а после интеллектуальной пьянки в котельной Шанского догнавшую его морозной ночью у спуска в метро. Он осязал в своей руке её тёплую мягкую податливую ладонь и вспоминал, разумеется, что американская гражданка Анна Гилман погибла много лет спустя, в новые уже времена, при взрыве кавказскими террористами Невского экспресса, вот как изволила распорядиться её жизнью судьба.
Детектив пишет судьба?
Между тем Марк Гилман, постаревший, но узнаваемый, не без гордости рассказывал про морозную ночь, про то, как он с нелегальным тяжёлым рюкзаком за спиной вышел, озираясь, из тёмного узкого и длинного проходного двора на пустынную заснеженную площадь Искусств и… А ведь в том дворе, на задах гостиницы «Европейская», был опорный пункт КГБ…
Да, бывший консул по культуре не зря храбрился-гордился, он блестяще исполнил свою секретную миссию: сначала опорожнил рюкзак дома у Германтова, вывалив редкие книги на пол в гостиной, затем, уже в другом доме, заново свой рюкзак наполнил и – донёс, довёз, не попался…
– Спасибо, спасибо, Марк, но у нас мало времени…
Куда она так спешит?
Рассыпавшись в благодарностях и распрощавшись с Гилманом, Левонтина заговорила о пестроте архива Дианы Виринеи Мочениго: подкрашенные акварелью рисунки Юркуна, автограф Заболоцкого, любовное письмо Мандельштама… Потом прямой эфир разорвала предварительно, ещё в Петербурге, записанная беседа Левонтиной с театроведом Ингой Загорской – для сопоставления с рисунком Юркуна, на котором несколькими живыми линиями изображена дама в оперном сарафане. Показана была и плывучая безумная фотография на фоне наряженной ёлки, с поющими, обнявшись, Ольгой Лебзак и Ларисой Валуа. Возникла даже милая, с душком модного телескандальчика, перепалочка: Левонтина с ходу усмотрела в сценке домашнего пения лесбийскую подоплёку, Загорская ей обиженно возразила.
Ничего интересного… Едва успел Германтов это подумать, как тут же Левонтина, уже находясь в Венеции, заговорила о неких загадочных выставленных на торги бумагах, в частности о нотах с пометками, как подтвердили эксперты-графологи, выдающегося музыковеда Ивана Соллертинского. Левонтина, резко приблизившая бумагу к камере, показала заполненную нервными значками-закорючками нотную страничку с косой размашистой надписью: «Гениально!»
– Кто мог сочинить эту гениальную музыку? – слепила телезрителей черепаховыми очками Левонтина, но Германтов-то почти уже наверняка знал, знал – кто мог… Бедный Изя. А мог ли больной Соллертинский, находясь в сибирской эвакуации, в разгар войны кому-то переслать перед своей смертью ноты? Мог, мог – пути рукописей неисповедимы, но ведь вот они, ноты.
– Что ещё включено в лот «Личные бумаги»?
– Лот чрезвычайно разнообразен, в нём немало других загадок. Вот, пожалуйста, некий Миша – посмотрите, это словно страничка, вырванная из дневника, – красочно описывает, как опоздал он к отправлению философского парохода, стоит дата… Да, – заглянула в шпаргалку Левонтина, – 1923 год. Среди бумаг есть и стихотворение, очевидно, судя по почерку, принадлежащее перу этого же таинственного Миши, стихотворение, обращённое к Ольге Николаевне Гильдебрандт-Арбениной, названной им своим ангелом-хранителем.
Так, мадригал нашёлся, и «некий Миша» – не такой уж таинственный, как меня стараются убедить, хмыкнул Германтов, а вспомнил Высокий Замок, грозу – от ливня он и Сабина спасались под зонтообразным деревом. И вспомнилось ему, как после той грозы с обломанной радугой он шёл по невысохшим плиточным тротуарам сквозь умытый, отблескивающий лужами, листвой и стёклами Львов, как на Академической улице, у кондитерской, повстречался с Александром Осиповичем Гервольским, у него в руке была круглая картонная коробка с тортом – вечером ожидались гости. Пепельные узкие губы, красно-лиловые прожилки на припухлых скулах: как близко, чудесно близко было сейчас лицо Александра Осиповича. По дороге к дому Александр Осипович что-то в своём ироничном духе, замешивая, возможно, правду на выдумке, рассказывал Юре об отце, которого шутливо называл Германтовским, и рассказывал тогда о том, что у отца, то бишь Миши, всегда была тысяча замыслов и сто тысяч несделанных, всегда неотложных дел, он вечно опаздывал. И тогда, именно тогда, когда они уже подходили к чёрному дому с атлантами, Гервольский рассказывал о решающем, по Мишиным словам, опоздании: как-то Миша должен был что-то сверхважное для него самого передать с оказией, но опоздал на исторические проводы парохода – отец бежал, бежал по Восьмой линии Васильевского острова к Неве, а чёрный дымящий пароход, отвалив, выплывал уже на середину реки… Как укрупнялось прошлое, как укрупнялось, Германтов ведь был заложником своего излюбленного методического приёма, он ведь и свою жизнь помещал в обратную временную перспективу, и далёкие события, даже те события, которые случились до его рождения, становились такими большими, близкими, такими значительными.
Однако… Сколько раз пытался Германтов представить себе отца, которого никогда не видел, представить его, бегущего по Восьмой линии к Неве, представить хотя бы – какие были на фантоме одежды. Да, приближались-укрупнялись давно не крашенные фасады Восьмой линии, тускло-охристые, серенькие, с пятнами тлена, с ноздреватыми цоколями из слоистой путиловской плиты, но материальные средовые подробности не помогали оживить-увидеть фантомного отца и тем более – объяснить его поведение.
Что отец должен был передать?
И кому – Бердяеву, Карсавину, Шестову, Франку?
«Некий Миша» – он же «некий Михаил Вацлович» – всё-таки был таинственным: эпический бег его по Восьмой линии впечатлял, но мало что объяснял…
Хотя, неожиданно предположил Германтов, возможно, вполне возможно, что отец не отсекал польский хвост «ский» от своей подлинной фамилии, чтобы иметь фамилию с русским окончаниием на «ов», а напротив, под впечатлением от шуточек Гервольского «ский» к изначально русско-прустовской фамилии своей прибавил – и получился вместо фамилии дурашливый псевдоним.
Всё ясно?
Ответить Бызовой?
Нет, только завтра, после поездки в Мазер. Он ответит только после того, как увидит виллу Барбаро.
Карина Левонтина покидала экран.
Германтов открывал текст Загорской.
А Бызова в этот же момент ловила себя на том, что теряет интерес к Вольману – он, пока за ним охотились спецы – чистильщики-киллеры – из кучумовской бригады, как-никак обещал ей выход к разоблачению куда более крупных и тёмных дел банкиров и олигархов. Лишь внутри развивающегося детектива Бызова чувствовала себя в своей стихии. После же того, как Кучумова арестовали и везунчик Вольман, как Бызовой показалось, выскользнул из-под прицела, она поняла, что детектив сдулся и теперь ждёт её лишняя серия забуксовавшего боевика…
Если бы она знала, что Кучумов успел…
К тому же все те сведения, что ещё с полчаса назад могли бы стать решающе важными в её расследованиях, после выведения Вольмана из смертельно опасной игры утрачивали актуальность, несли лишь побочный интерес – Бызовой переслали оперативно составленное в «Мойке. ru» резюме из архивных данных, запрошенных ею в ФСБ. Эти сведения напрямую Вольмана не касались, но судьбу автора найденного романа, который почему-то так увлёк Вольмана, проясняли… Бызова, конечно, была уверена, что сын – в том, что Юрий Михайлович Германтов – сын, тоже была уверена – давно осведомлён о печальной судьбе отца, но, надеясь на его ответ-комментарий, она, привыкшая досконально обосновывать-доказывать все свои версии, включая и боковые, не собиралась медлить и вдогонку к отрывкам из романа переслала ему также и это крайне информативное резюме… Что же до романа, то одна из разгадок – разгадка авторства – была близка, но всё-таки при очевидной схожести фамилий не вредно было бы окончательно уточнить: кем мог быть этот «М. Германтовский»?