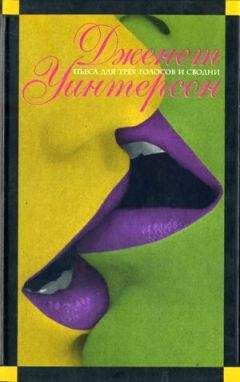И вот, в эти два дня я заново открываю для себя этот город с прозрачным светом ее глаз и редким касанием прохладных пальцев к моим рукам то слева от себя, то справа, то напротив, когда трясемся в автобусе или троллейбусе. И я просто поверить себе не могу, что в первый день знакомства имел наглость целовать ее в подъезде, так и не зная, в том ли доме она живет. Но ведь тогда она была пьяна. А теперь, кажется, чересчур трезва. Вот, я подаю ей руку на сходнях корабля, который повезет нас по Финскому заливу. Вот, смотрю на нее, прямо идущую на меня из какого-то магазина, куда она исчезает, строго предупредив, чтобы не шел за ней. И я сижу в зеленом сквере со слабым дождиком и на раскаленном кончике боязни, что она не вернется, потому что, несмотря на то, что оба мы диссертанты в одном институте, я ничего о ней не знаю, даже места, где она живет, откуда возникает и куда исчезает. Подозреваю, что мы целовались в подъезде явно не ее дома. Эта плутовка и на такое способна. Даже пунктуальность ее исчезновения и появления пугает. Быть может, она вообще играет этой точностью. А мне-то каково?
Сколько раз подмывает плюнуть, не прийти, но я себя не узнаю, я, как паук, терпеливо плету замысловатую паутину с размахом на день, и то, чтобы уловить даже не мушку, а так – усик, радужное крылышко.
В двенадцатом часу дня неожиданно возникло в просвете туч на несколько минут солнце. Стоим на Марсовом поле, и ткется этот час влажно-коричневой свежестью поля, полыханием цветов на сочно-зеленом фоне, неожиданной четкостью рисунка – кирпично-кровавого Михайловского замка – в серости дождливого дня, и правее, – храма Спаса-на-крови.
Мы входим в Летний сад, и она на правах гида что-то рассказывает, а я слежу за легкостью ее движения, и в ткань этого прохладно до замирания кончиков пальцев часа вплетается узор чугунной решетки, зелень вдоль аллей. Плавно раскрывается взгляду бесчисленная матово-серая с подтёками, почти коралловая колония скульптур, возникающих из массы зелени одна за другой причудливо волнистой кудрявостью, как завивающиеся и опадающие один за другим, влажно-выпуклые листы капусты. Время после Эллады. От Гомеровой, незрячей, на ощупь суровой простоты форм – к пиру зрелища. К изыску, разгулу оборок, фестончиков, замысловатостей, пытающихся облагородить в лицах Августа, Траяна, Нерона каменную поступь тиранства.
И снова – паузы зелени, нежно-зеленая выпушка трав и – совсем завитой кудрями, складками тканей, зверюшками, всаженный в сиденье чугунный, поблескивающий в дожде Крылов. Тянется Летний сад, плавучий остров статуй. Относит его влево. Летим поверх Финского залива на «Метеоре», сеется дождь. Мягко, скользко, упруго перекатываются подушки волн. Протянуты вдаль плоские воды, плоский берег с почти притиснутой к нему вплотную плоской крышей облаков, и в широкий наискось разрыв их видно неожиданно бескрайнее вверх небо.
От причала бежим под деревья по сквозному ветру вперемежку с дождем. Бежим вдоль канала, по аллеям французского парка к Петродворцу. А вокруг – зеленая бархатистость лужаек, покатых склонов, мостики, переходы, промокший гравий. И обращены к небу свернутыми в трубочку устами фонтаны, фонтанчики. Немолчен многострунный плеск вод – падающих, распыляющихся, висящих облаком, туманом, сыростью. От Петродворца, как из рога изобилия высыпали вниз вдоль каскада, разбрелись по зелени позлащенные копии античных фигур, наглядное пособие к Элладе. Вакханалия водолейства: сирены, нимфы, тритоны, льющие из рожков, выдувающие струи в сторону Самсона, извлекающего из пасти льва восемнадцатиметровой высоты струю в небо – водяной сон, сад водяных стволов, который вмиг может увянуть, исчезнуть, и также вмиг возникнуть, как призрак.
Это и пугает. Переизбыток красот. Облики, которые мерещились с детства в очертаниях облаков, в древесной спутанности, неожиданно обрели плоть камня или металла и на всю твою жизнь высыпали ошеломляющим скоплением. Вся эта замысловатость и изысканность настраивает на возвышенный лад, но не становится частицей твоего существа, – вот что пугает, печалит, ставит под сомнение и наше пребывание вдвоем. Кажется, стоит лишь выйти из празднично живущих земель, трав, парков, дворцов, каскадов, скульптур, и вместе с ними исчезнет существо с прозрачным всё поглощающим и ничего не отдающим взглядом. Существо с неизвестным именем и местом пребывания, которое я по врожденной своей слабости, по трижды проклятому генетическому коду уже слишком близко принимаю к сердцу. И потому среди красот, как никогда, хочется мне видеть ее в своей запыленной холостяцкой комнате общежития, ввести в круг скудных предметов – койки с пружинами и обгорелым с одного края матрасом, старого, массивного, но уже рассыпающегося, письменного стола. Он и держится только потому, что его уже наверно с десяток лет не трогали с места. В обществе немытой сковородки, пустых бутылок и банок, заплесневелых корок хлеба я мог бы чуточку поверить в прочность нашего знакомства.
Возвращаемся на «Метеоре» через Финский залив, но не в салоне, а у открытого борта, и в лицо нам – ветер с брызгами волн и дождя. Выходим у Эрмитажа, идем вдоль набережной, а дождь то припустит, то уберется за первую попавшуюся стену, и расслабляется серая повисшая над городом муть, за которой безмолвно для самих себя вершатся белые ночи. Прощаемся. Иду один по улицам, потом через парк, и теперь уже, как паук, перебираю паутину, сотканную за день: Марсово поле, Петродворец, вода сверху, снизу, сбоку – и никакого улова.
Более того, когда я с ней, само ее присутствие рядом, задумчивость, удивление, внимание к моим словам, – как надежда, залог, что между нами, пусть едва ощутимое, но что-то уже есть, хотя бы и сиюминутное, как все необычное редкое окружение. Кажется, еще и сорвется с моего языка давно не дающая мне покоя глупость, мол, не могу без тебя, кто ты есть, Настасья, Катя или Груня. Давай, не задумываясь, уедем, куда хочешь, добьемся, чтоб вместе нас послали в одно место на поисковую работу, и если ты меня покинешь, я погибну, сопьюсь, пойду с протянутой рукой. А мы спокойно стоим у фонтана «Нептун» в верхнем саду Петродворца, глядим на статую Аполлона, копию с античного оригинала, и я что-то рассказываю о нем. Но вот она ушла, исчезла, и ничего – даже лица, жеста не помню. Одна сеющаяся в воздухе вода, и во всем ее девичьем едва зыблющемся неостывшей памятью облике – отражение человека, который любопытно рассказывает об Аполлоне, а в глазах его голодный блеск надежды. Узнаю себя.
* * *
Сегодня она не пришла на занятия, а у меня даже телефона ее нет. Стою в пустом коридоре, бесцельно разглядываю в окне мокнущие аллеи. Внезапно чувствую чью-то тяжелую руку на плече. Ощущение, что кто-то проверяет крепость моих мышц. Резко отбрасываю пальцы, вцепившиеся мне в плечо, хватаю руку и заворачиваю ему за спину. От неожиданности человек сгибается.
– Отпусти, – нотки в его голосе грозные, но кряхтенье выдает бессилье. Узнаю его. Это парень, который в тот первый вечер знакомства с ней, сидел рядом, был в стельку пьян.
Не знаю, насколько он проверил мою крепость, но я-то понимаю, что он слабее меня, и потому веду себя напористо.
– Ты чего, совсем спятил? Я же от неожиданности мог тебя головой в стенку, а потом отдувайся.
Как же я упустил его из вида. Совсем он выпал из поля моего зрения. На той вечеринке я видел его первый раз, и она с охотой согласилась сбежать со мной. По-моему, он и к геологии не имеет никакого отношения.
– Откуда ты взялся, такой хваткий? – голос у него хриплый, задыхающийся. – Пристал к моей невесте как банный лист.
Он пытается распрямить руку, сильно я ему ее прижал.
– Какая невеста? Как ее зовут? – спрашиваю.
– Анастасия, – выпаливает он, сбитый с толку поставленным в лоб вопросом.
– А тебя как зовут, жених?
– Так я тебе сразу и сказал.
Припоминаю, как в этом же коридоре они переругивались, а я не придал тогда этому никакого значения.
– Слушай, жених, беги отсюда, пока я тебе вторую руку не вывернул.
Сижу в библиотеке, работаю. Может, он и вправду ее жених, у них там какие-то внутренние разборки, а меня она просто использует в своих играх. Но она ведь по-настоящему красива, а он какой-то бледный и плоский. Решаю уйти в тень. Да куда деться в этот унылый непрекращающийся дождь.
Ночью вскакиваю со сна, проверяю, крепко ли закрыта рама окна. И это в жарком и влажном июле. Со страхом чувствую, накатывает давным-давно, с той ночи, когда я полз к снежному колодцу, забытый приступ хандры. И первый ее признак – мысль о легкости исчезновения из этого мира. И всегда под руку, рядом – широкий выбор возможностей. Снежный колодец в считанных метрах от палатки, и я один, и никого рядом, чтоб меня остановить. Слабая рама отделяет меня от тяги высоты. Совсем неподалеку призывно мерцает мутно размытыми огнями разводной мост над Невой. Самое жуткое, что я – молодой человек, крепкий здоровьем, успешно делающий карьеру, нравящийся женщинам, во всяком случае, в первый период знакомства, внезапно, как падение в обморок, ощущаю полнейшую безопорность. Кажется, сделаю еще один шаг, и перестану существовать. И, главное, это невозможно никому объяснить, не поделиться ни с кем. Внезапно передо мною стена, и весь мир – по ту сторону этой стены. Лихорадочно пытаюсь припомнить, как я раньше выходил из таких мгновений, но ничего не припоминается. Щупаю пульс, заранее зная: учащенный. Накрываюсь одеялом с головой. В темноте, за веками, возникают одна за другой – Нина, Лена, Света, все они лучезарно инфантильны, прямо пузырятся жизненной силой, все они весело топчут меня, лежащего на дне снежного колодца, на улице после падения с высоты, на дне холодных вод, по ту сторону жизни. Нельзя мне было, нельзя посещать музей Достоевского. Там чертовщина, как плесень, – пристанет, не отмоешься.