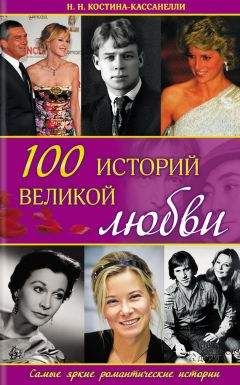– Ты тоже родной матери гадости говорить будешь?
– По мере своих слабых сил, – ухмыляюсь я.
– Я зашла к ней в личку, скопировала ее фотку и вывесила все это вместе с нашей перепиской!
– А еще человек гуманной профессии! Не стыдно? Она ж только с суток! Небось потом все твои друзья налетели на эту несчастную и заклевали ее до смерти. Один твой патологоанатом Тарнопольский чего стоит! Та еще ехидна!
Ма удовлетворенно хихикает. Настроение у нее явно повысилось. Яблоки уже кончились, и поэтому она говорит:
– Мне сегодня на вторую, так что пойду, кофейку сварганю и бутербродик сделаю!
– Я буду участвовать.
– Тогда пойди поставь чайник. И сгоняй за маслом и молоком. И сырку прихвати. Да, и кофе у нас тоже кончился!
– Из чего, интересно, ты тогда собиралась делать кофе и бутерброды? – интересуюсь я. – Из яблочных семечек и панировочных сухарей?
– Я только с суток, мне простительно! – патетически восклицает ма, и мы обе смеемся.
Мне на сутки только завтра, и я жду не дождусь этого момента, словно собираюсь на долгожданное свидание… и, собственно, это очень близко к правде. К тому же ма так и не ответила на мой вопрос, влюблялась ли она когда-нибудь в пациентов.
Дневник женщины, оставшейся неизвестной
Домой едем молча. Маруська как воды в рот набрала и почему-то прячет глаза – ну что она, виновата что ли, если у нее такой родственник? Как говорится, сын за отца не отвечает, тем более сестра – за троюродного брата. А может, Маська просто не хочет разговаривать при водителе, которого отрядили довезти нас до самого дома, – и что ни говори и как ни надувай щеки – это очень кстати.
Дорога ужасная. И дело даже не в том, что асфальтовое полотно все изрыто то гусеницами, то ямами от разорвавшихся мин – просто война тут ощущается куда острее, чем в городе. То и дело в некогда пышных, а теперь каких-то неприкаянных полях с черными, сожженными, скрюченными в предсмертной муке и так и не налившимися головками подсолнечников виднеется сгоревшая техника. Они тоже черные и обгоревшие – эти изувеченные военные монстры или того хуже – бывшие мирные автобусы и грузовики, сброшенные с дороги в кювет взрывами или просто выпихнутые танками или БТРами, чтоб не путались под ногами и не мешали. Сгоревший мир, сгоревшее лето, от огня не ставшее более теплым…
Сепаратистское ли угощение, но, скорее, собственное обжорство не пошло мне впрок: в животе то и дело схватывает и бурчит, и я не чаю, когда и доеду до родного сортира. Временами мне становится совсем невмоготу, и тогда я даже постанываю.
– Шо, трясет? – сочувственно спрашивает водитель.
В спасительные кустики мне спрятаться не светит: от дороги нельзя отходить дальше чем на полметра, а еще лучше – совсем ее не покидать. Поэтому я не могу представить, как присаживаюсь по большой надобности прямо на виду у проходящих машин. Я стискиваю зубы и считаю, сколько блокпостов еще осталось до дома. Хорошо еще, что у нашего водилы все переднее стекло залеплено разрешающими бумажками с такими подписями и печатями, что даже казачки не смеют приказывать нам выйти и открыть багажник. А в багажнике есть на что посмотреть: утром Маруськина невестка, причитая и уговаривая погостить еще хоть недельку, набила нам с собой огромное количество сумок и пакетов.
– От и не посидели как надо, по-родственному… Шо ж вы так – вчера только приехали, а с утра уже и удирать? Та хоч до воскресенья остались бы! Когда ж теперь опять свидимся, а?
– Да я бы осталась, правда, только у меня ребенок маленький дома. На соседку оставила, – оправдываюсь я.
Маруська молчит, застыв над чашкой кофе и безучастно глядя в окно. На дворе полный кинематографический погром, только что вспоротых перин не хватает. В тенечке под зелеными насаждениями храпят пьяные, собака лениво чавкает под разоренным столом, выбирая из валяющейся на земле снеди какие-то особо вкусные кусочки, сверху, тоже не чинясь, пасутся воробьи.
– Манюсь, может, ты хоть трошки погостишь? – продолжает жалобно тянуть Маськина родственница. – А то я тут одна уже и одича-а-ала…
– Не могу, – отрезает моя подруга. – Куры дома, утки…
Куры, утки и прочее хозяйство, которого у Маруськи отродясь не бывало, – для нашего человека святое. У моей подруги только кот – и тот приходит и уходит через форточку, ведя полудикий образ жизни. Я запихиваюсь «на дорожку», хотя, если честно, вчерашнее еще дня три будет перевариваться, пытаюсь разгадать загадку Маруськиной утренней необщительности и одновременно поддерживаю светскую беседу: о том, что первого сентября наши детки, скорее всего, в школу не пойдут, что Украина не выплачивает ни пособий, ни пенсий (а вот и неправда – выплачивает). Просто сюда деньги не завозят – и правильно делают: здесь их тут же, на полдороге к банкам – которые, кстати, тоже в гробу видали работать в таких условиях, – присваивают всякие бандформирования, совсем как во времена Гражданской войны и батьки Махно вкупе с Петлюрой. Однако свои исторические познания я временно прячу в карман, боясь подставить Маську еще больше.
– От, мамке пенсию и не дают! – жалуется хлебосольная Маруськина родственница.
Ну, допустим, при таком зяте никакой мамке с голоду помереть не светит. Но остальных пенсионеров, да и всех мирных граждан, волею судеб оказавшихся на территории войны – тех же нас с Маруськой, которым зарплату теперь будет выплачивать неизвестно кто и неизвестно чем, – ужасно жалко.
– Серега своих, кто на пенсии, даже отпускает: езжайте, говорит, в Харьков, в Мариуполь или даже в Киев – у кого там родичи, так вообще красота, остановиться есть где, – простодушно выдает нам военные тайны жена командующего, – и переоформляйте пенсии туда. А чего? Горбатились-горбатились на эту ихнюю Украину, а она нам пенсий не дает! А чего? Мы ж честно заработали!
Вот оно как, оказывается… Боевики, они же ополченцы, снимают форму, надевают цивильное – и честно едут просить свою пенсию в стан врага! Умно… Красивый финт ушами – особенно учитывая то, что пенсии у нас в стране выплачиваются из доли работающих. В более успешных странах есть специальные фонды – но у нас до этого еще не дошло. И пока ты работал, то содержал из своей зарплаты каких-то там пенсионеров – которые все равно были все свои, не важно откуда: из Луганска там, из Полтавы или из Коломыи. Теперь, когда ты доработал до пенсии и вышел на заслуженный отдых, тебя будут содержать другие работающие. Закавыка, правда, состоит именно в том, что кормить боевиков Лэнээр и Дэнээр будут их кровные враги – вкалывающие где-нибудь в Виннице, Львове или Сумах. А ополченцы родственника Сереги, которые, кстати, из-за вредного труда на шахтах и на пенсию выходят рано, желают свое оставшееся после забоев здоровье положить на алтарь неизвестно какого бога войны. Поэтому-то они, потратив полученный от боевого дежурства отпуск и благополучно переоформив пенсию в неприятельском логове и получив все причитающееся за нелегкий шахтерский труд, возвращаются сюда, снова надевают форму… и убивают детей тех, кто работает, чтобы им платили пенсию. Вот такой у нас тут театр абсурда…
Я не озвучиваю свои мысли и сомнения: незачем подставлять Маську, да и некого переубеждать. Свое мнение я спокойно могу положить к себе в карман, довезти домой, а там, если очень хочется, выложить на видное место и периодически стирать с него пыль. Очень плохо в нашей жизни только то, что тем, кто не встал под знамена «за святую Русь», кто не получает «ополченских» и кому действительно пенсия нужна как воздух, чтобы забрать ее, нужно доехать хотя бы до Харькова. Мало того, что на этой неспокойной дороге стреляют, поскольку там сплошь казачьи заставы, – так там, прямо под сенью знамен, цинично украшенных ликом Спасителя, казачки отбирают в свою пользу значительную часть полученного.
Маруськина невестка все жалуется и сокрушается о судьбах простых антрацитовских граждан, а я машинально киваю, совсем как ученая цирковая лошадь. Мне до смерти не хочется обижать Маськину родню, тем более после вчерашнего съедения тортика.
– Господи, а еды-то сколько осталось! – внезапно перейдя от темы голода в городе и новоиспеченном государстве в целом к собственному и насущному, спохватывается хозяйка. – Холодильников-то у нас всего два, да и не осилим мы. Манюсь, возьмете с собой?
Маруська мычит что-то невразумительное, а я особенно усиленно трясу гривой. Обрадованная родственница начинает сновать туда-сюда и трамбовать припасы в неподъемные кошелки. Я машу руками, но она не обращает никакого внимания на протесты:
– Спортится, спортится же все… собака столько не съест! И потом – не руками понесете, Сережечка приказал вас до самого дома довести, сейчас позвоню, чтоб машина подъезжала…