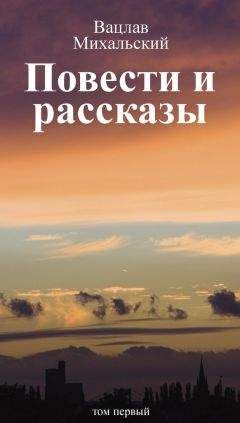Вот, оказывается, в чем дело, а Катя была уверена, что уехал он в Казахстан, ушел в егеря, потому что его жена бросила, то есть ее, Катина, мать.
– С капканом как с малым дитем носишься, все время их переставляешь, маскируешь. Капканы охранять надо, чтобы скотина не попала, а если сам попадется, то чтобы не жаловался долго, не тревожил своих приятелей. А то он, как попадет, жалуется, кричит. Поэтому и ночуешь недалеко, чтобы его услышать… Интересные случаи? Отчего же, бывало, всякое разное бывало. Один случай был такой. Нашел я в камышах выводок, на бугорке они устроились, а кругом вода. Ставлю капкан, спешу, думаю, придут вот-вот. Слышу издали: иу-иу! – свинья отзывается, и ближе – иу-иу! Чалап, чалап по водичке. Думаю, дай стрельну. Присел за белоголовник. Осока уже колышется. Вот-вот спина покажется. Глядь, а то волк и волчица, а за ними молодежь. Свинью ведут крупную под конвоем. Это они для молодежи стараются, тренировать ее, значит, будут, натаскивать. Меня увидали – свинья в сторону спасаться бросилась, волки в камыши враз макнули. Я и стрельнуть не успел. Зато спаслась свинья от издевательства… Бывали случаи, и ногу отгрызает. Вот однажды поставил я капканы. Неделю постояли. Ничего не приловил. Думаю, сниму. Все капканы просмотрел, а крайнего нету капкана. Гуляет он с ним. Я капканы не забиваю, потому что если он забитый, то ему деться некуда, и он сразу соображает ногу себе отгрызть. А так – гуляй, пожалуйста, далеко не уйдешь, капкан шесть кило тянет. И точно, обсмотрел я метров двести по лознячку, нашел его. За вербу зацепился, стоит, сгорбился весь. Меня увидел – как дернется и убежал. Подошел к капкану, понял – перегрыз-таки. Он ногу грызет с-под капкана, споднизу, капкан захватывает сильно, лапа у него омертвевает… Волк, который ногу отгрыз, уже никогда в жизни не попадется снова в капкан. А нога приживает, сколько их, инвалидов, видал…
Вроде бы Катя и слушала вполуха (она не высыпалась уже пять месяцев, ее покачивало от истощения сил, и перед глазами то и дело вспыхивали радужные круги), а рассказ отца врезался в душу, отпечатался в ее памяти буква в букву. Она почувствовала себя самою в капкане, ощутила его холодное, защемившее сердце железо.
С тех пор Катя частенько возвращалась в мыслях к капкану, пока не решилась наконец вырваться и убежать, не решилась сделать сына своего безотцовщиной. Плата за ошибку молодости была не маленькая, и Катя чувствовала себя кругом виноватой: и перед бывшим мужем, и перед сыном, и перед людьми. Она была из тех, кто ищет виноватого не на стороне, а в себе. Она никого не осуждала – ни мать, ни отца, ни своего бывшего мужа, – каждому из них находила оправдание, а себя казнила томительными ночами в хибарке на берегу моря.
XI
«…Он встретил на пути своей юной жизни донну Лауру и полюбил Ее великой любовью, приобщившей Ее к лику Беатриче и славнейших женщин мира. В тот год, в шестой день месяца апреля, в пятницу страстной недели, слушал он утреннюю службу в церкви Сэн-Клэр, в Авиньоне; и вот, когда, отстояв службу, вышел из церкви на площадь, глядя на других выходящих, то увидел донну Лауру, дочь рыцаря Одибера, юную супругу синьора Уго, коего достойный, но обычный образ не удержался в памяти потомства…»
Катя потянулась всем телом, едва приподнимаясь с кровати, и положила раскрытую книгу на стол, застеленный вытертой цветастой клеенкой.
«…коего достойный, но обычный образ не удержался в памяти потомства…» Последняя строчка еще плыла перед глазами, еще теснились в душе образы, навеянные чтением: быстрый и горячий взгляд кареглазого синьора Франческо, солнечный взор Лауры из-под черных, как эбен, ресниц, сумрачная сень церковного портала, и «холодная грязь узких улиц, и все люди, шедшие в них посередине, и вся их жизнь, весь быт, все дела и чувства». Катя еще была там – в никогда не виданном ею весеннем дождливом прованском городишке, – а мысли ее уже потянулись к Георгию, к ее любви, к ее жизни…
А ведь и они с Георгием впервые увидели друг друга шестого апреля, в пятницу. Это совпадение поразило Катю. Да, именно в шестой день месяца апреля, в пятницу страстной недели, дождливым утром (дождичек сеял мелкий-мелкий, отец называл такой – «мигичка») явилась она застраховать его жизнь.
Катя засмеялась своему неожиданному открытию, и на сердце у нее сделалось так легко, чисто, празднично, и так захватило дух, как будто ясным солнечным днем взглянула она вдруг с высокой-высокой горы и открылись ее взору пути-дороги во все концы: в золотистой дымке, радостные, призывно веселящие душу большой надеждой.
За тонкой поскрипывающей стенкой из ящичных дощечек неустанно бухало море. Бух! Бух-бух! Бух – словно бил в огромный бубен мягкой ладонью скучающий творец, равнодушно прислушиваясь в паузах к прострельному, беглому шипенью прибойных волн, к шороху их отлива по песку, к заунывному голосу полдневного жаркого ветра «Магомет», дующего на город и побережье сбоку, с юго-запада, из обуглившихся глубин прокаленных до соляных пятен, растрескавшихся, как туркменские такыры, черных земель.
В зеленоватой полутьме хибарки серебряно поблескивало маховое колесо ручной швейной машинки «зингер» – рядом с ней Катя и положила на стол раскрытую книгу. От воздушного вороха шитья сухо пахло краской еще не стиранного ситца, его тугими рулонами, фабрикой.
Швейная машинка всегда выручала Катю. С ее помощью везде, где были женщины, она быстро становилась особо важным лицом. Так было и в гарнизоне, так стало и здесь, в поселке самовольщиков, и на Катиной работе в Госстрахе. У нее был прирожденный вкус к шитью и кройке, настоящий божий дар, и в придачу к нему – золотые руки, да еще секреты и навыки, переданные Бабулей. Катя часто шила без готовых выкроек, фантазируя по ходу дела, и почти никогда не ошибалась в своих расчетах. «Иди учиться в текстильный, из тебя получится классный модельер», – не раз говорила Вера Георгиевна, понимавшая толк и в шитье, и в людях. «Обязательно, я так и думаю», – охотно соглашалась с ней Катя, уверенная, что так оно и будет: после десятилетки поедет она учиться в Москву в Текстильный институт. Поехала… через Москву проездом… Ладно. Чего горевать о потерянном. Худо-бедно, на кусок хлеба себе и сыну она всегда заработает. А это не так уж плохо во все времена.
«…коего достойный, но обычный образ не удержался в памяти потомства…»
Шестого апреля, в пятницу, пришла она застраховать Его жизнь…
С высокого темноватого неба раннего апрельского утра сеял светлый дождичек, мелкий-мелкий, как водяная пыль, – «мигичка». Свежо и крепко пахло талыми водами, последним снегом; его ноздревато-серые, слежавшиеся полосы и пятачки еще прятались в складках пробуждающейся земли, еще таили обморочное беспамятство зимнего сна, еще на что-то надеялись. Весна в тот год выдалась удивительно поздняя для здешних мест, затяжная, с сумасбродными вихрями, швыряющими снежные заряды в лицо, с долгими морозными утренниками, с гибельной бескормицей для скотины, для зверей и птиц, зимующих в этих краях.
Подойдя к дому Георгия, Катя не сразу вошла в подъезд, а долго стояла под его козырьком и смотрела во все глаза на лошадь и жеребенка у железного мусорного бака. Старая кляча с продавленной спиной, торчащим крестцом, выпирающими ребрами, с полуоторванной подковой на задней левой ноге была похожа на нищенку – не наглую поездную побирушку наших дней, вымогающую на водку, а настоящую стародавнюю, голодных времен, собирающую милостыню только ради поддержания своей жизни и жизни своих близких. Переступая вокруг мусорного бака, цвякая об асфальт полуоторванной подковой, старая решительно и брезгливо вытягивала из отбросов мягкими черными губами кусочки хлеба, отбрасывая в сторону пустые консервные банки, обрывки полиэтилена, скомканные газетные листы. Жеребеночек тоже норовил ухватить свое, но старая упорно загораживала от него ящик крупом, как будто не желая, чтобы и он приноравливался к унижению. Выхватив четверть буханки серого хлеба, она тут же отдала свою добычу малому, а он стал валять ее по мокрому асфальту носом, подталкивать губами, общипывая, объедая со всех сторон.
«Господи, до чего дожили – выпеченный хлеб бросаем в мусорки, а скотина голодная!» – в сердцах подумала Катя, и так жалко стало ей побирушек, так запеклось и стеснило в груди, что захотелось приласкать, расцеловать глазастого, тонконогого с белой звездочкой во лбу, приободрить старую, извиниться перед ней за всех тех, кто оставил их без корма, обрек на нищенство.
Направляясь к ним, Катя уже ступила из-под козырька подъезда, но в это время во двор с хозяйской степенностью вбежала большая пятнистая собака. Зарычав на гостей, она повернула к мусорному ящику. Лошадь, подталкивая впереди себя мордой жеребенка, цвякая об асфальт полуоторванной подковой, покорно пошла прочь, и скоро они скрылись за углом соседнего дома. Собака, подбежав к мусорному ящику, села на задние лапы, подняла лохматую морду кверху, гавкнула пару раз для острастки и занялась поисками у себя на брюхе блох, – судя по всему, она была сыта, и в этом смысле мусорный ящик ее нисколько не интересовал. «Вот так все в жизни!» – с горькой усмешкой подумала Катя, вспоминая известную пьесу Лопе де Вега «Собака на сене», в которой ей приходилось играть в интернатском драмкружке роль Дианы.