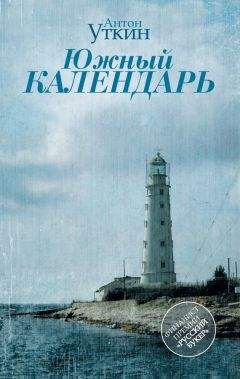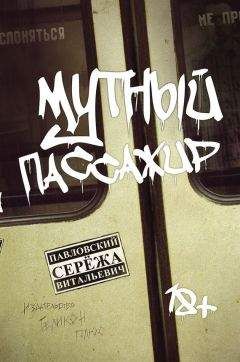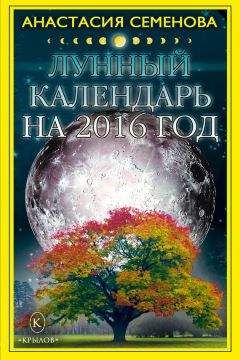Он возвращался в карман залива, единственная стрелка его удивительных часов, как светляк, зажигалась зеленым фосфором. На ночь слушал мягкую речь хозяйки – были, которые память ее берегла среди забот и превращений существования. Как плескались парусами летучие шаланды, как полоскалась кефаль на их скользких днищах, как крейсер «Кагул» – бывший мятежный «Очаков» – громил большевистскую батарею у Каховки. Как мучительно погибал «Красный Казанец», загнанный на остров Долгий немецкими самолетами, как в жарком воздухе умирали его моряки, а потом море день за днем отдавало их по очереди, по одному, и всех их дочери рыбаков уложили в соленую почву, не поставив ни звезд, ни крестов. И он выслушивал ее жизнь, делая поправки в своей скудной летописи. Глядя на ее лицо, иссеченное впадинами и расщелинами морщин, как кусок высокого прибрежья, невозможно было не поверить, будто у земли есть край. И он с невесомой грустью думал о том, как прекрасен бывает мир и как жалко бывает его покидать.
И думал, что в эту самую минуту маяк уже выталкивает свой свет в темноту, и сердце сжималось тоской по его прохладе.
И уже почти сквозь сон слышал эти ее слова: «Что ты будешь робить с цим життям?.. Умру, умру, хиба останусь?.. Жива ж в землю не полезу».
Сахар, сахар за пять гривен, «ты бачишь?», – солью посыпанное небо, и вдруг выныривала непонятно из какого времени взявшаяся бессмысленная шансонетка: «Ах, Жорж, я так устала, возьми меня назад – в чертог империала, в блаженства дивный сад», и снова – по пяти гривен сахар, и привязчивая из недавней курортной недели: «Не верь, не бойся, не проси, не верь, не бойся…» «И знаете», – хотелось сказать кому-то, засыпая, – все пустое, абсолютно все. Даже сон».
Но потом являлась она – с бронзовыми волосами, туго забранными на затылке на греческий манер, в золотой диадеме скифов, и Полярная звезда, сиявшая в изголовье, осеняла лицо с неуловимыми чертами блаженством любви, мощью материнства, – с витой гривной на крепких ключицах под стройной высокой шеей, и рекла разверстыми устами курганов, растворенными царскими вратами, языцеми колоколен, распахнутыми пастями капищ грозно и ласково: «Верь, не бойся», словно бы приглашая перешагнуть залив и увязнуть вместе в кремовом песке косы, в струях покорно распущенных своих волос. И за дуновением этого голоса хотелось идти без оглядки, волнуя шелковистый ковыль.
Во сне он видел разных людей; некоторых он знал хорошо, некоторых совсем не знал. И она тоже приходила к нему во сне, уже без диадемы, и голос ее был не грозен, но просто ласков. Лица ее он не мог разобрать. Говорила с ним тихо, словно жалея его, как если бы у него, у них случилась только им одним понятная радость, с которой оба вынуждены расстаться. И причастность их друг другу была несомненна. И несомненной была неисчерпаемость встречи, суетность, случайность всех разлук. Они сознавали неизбежность того, что должно произойти, и он разговаривал с ней словами, которые раньше всегда боялся произносить. «Милая, милая, ты пришла. Я любил тебя всегда, просто не знал об этом. Просто забыл. Ты прошла по стольким дорогам, но ведь и я шел к тебе. По медной степи, под гремящими небесами».
И как ее звали, и кто она была, он тоже не очень понимал. Он мог бы назвать разные имена, и все оказалось бы правдой.
Но все же этот мысленный разговор будоражил его радостью, и он просыпался от счастья, в убежденности, что он не одинок, как были не одиноки до него все эти люди, устлавшие степь и дно мелководий своими костями, изглоданными едкой солью, высосанными корнями полыни. Хотелось плакать от этого чувства, сознание неслышно бредило бродячей блоковской строкой: «…радость будет… в тихой гавани все корабли…» – и, убаюканное, незаметно окуналось в сон и лежало на его волнистой поверхности, как просроченный билет на просвеченной солнцем воде. И лишь одно беспокоило: как и где искать ее после пробуждения, но он знал, что уже найден он, и успокаивался бездумной уверенностью ребенка.
И было в эти мгновенья совершенно ясно, что будет так до тех пор, пока недоступный тот маяк роняет свой белый свет на поверхность цветущей воды, пока кобылицы, не знавшие узды, встряхивая спутанными гривами, пьют лунный свет из песчаных воронок и мечутся над ними в поисках пристанища черноголовые чайки…
Как-то ночью он не выдержал и пошел на берег, надеясь увидеть хотя бы свет маяка и напитаться им, как часовая стрелка. Он стоял неподвижно, высматривая этот короткий, как удар, толчок света и тринадцать секунд мрака, который – был бы свет – он отличил бы от этой вязкой темноты вокруг, развалившейся на полыни, обложившей курганы воском осиных сот. Но только вязко пахло тиной, и ноги утопали в ней, как в многолетней хвое. К горизонту сползали плотные облака, и тьма там держалась непроницаемая, так что глаза уставали и начинали фантазировать грязно-розовыми полосами заката или просто фиолетовыми пятнами. Даже звезды сквозь тонко размазанную облачную пелену светили мутно, как через стекло хаты, где он ночевал. И только на противоположном берегу залива утло помаргивали огни полузаброшенных хуторов и далеко на северо-западе в небе разливалась зелень Очакова.
И то, что он не видит свет маяка, его угнетало и рождало в то же время ощущение, что он и вправду стоит у пределов зримого мира, и постигать большее не было сил.
Засыпая той ночью, он был уверен, что предстоит непогода, однако день наступил, как и предыдущий, залитый солнцем от и до, как человек, умеющий наутро выполнять обещания, данные накануне хмельным вечером.
Он напился чаю и пошел по степи к кордону заповедника. Берег здесь возрастал над морем метра на полтора, и полоса под изъеденным, избитым волнами обрывчиком была увалена водорослями.
Егерь появился под вечер, хмуро поздоровался, сунув вялую ладонь, и, отведя глаза, сказал, что он тут недавно, на Тендре не бывал, плыть туда не хочет, потому что боится мели, и во взгляде его открыто читалось: «Не проси». Это подтвердила его жена, со значением поглядывая на небо, и как бы в извинение пригласила пообедать.
На обратной дороге он пригляделся к цветкам чертополоха, отметил, как далеко колючки отгибаются от лилово-пурпурных корзинок, предрекая погоду, и покачал головой, вспомнив егерскую жену.
«Тож ты чуешь, сынок, чи ни, усю жизнь здесь прожила, а на той Тендре не була. А ить рыбачила с чоловиком, и усе…» – утешила его хозяйка и тяжело вздохнула, надолго задумавшись о чем-то своем.
И снова начиналось утро, и стрелка невозмутимо чертила круги в отведенном ей месте циферблата. Солнце, умывшееся в водах всех океанов, отдохнувшее и помолодевшее, взлетало над степью, сзывая под свои лучи крапчатых ящериц, просовывало пальцы между веток, забиралось под рваную сень винограда, целовало абрикосы в бархатистые веснушчатые щеки, проницало мутноватые стекла в синих рамах, дотрагивалось до бугристых стен, золотило кусочки соломы, впеченные в побеленную глину.
И очередной день наступал заведенным порядком, соперничая в блаженстве с мудростью снов.
И тянулись по берегу изумрудно-зеленые заборы камыша, белоснежные столбы жирных мартынов в его провалах, на горизонтальных полосках, желтых от песка, черных от водорослей, – сапфировое дыхание воды обжигало взгляд своими непроницаемыми оттенками, и только когда разводило зыбь, глаза отдыхали на белых гребешках, рябивших загустевшую синеву моря.
И он опять срывал голубоватые метелки полыни, растирал в пальцах и осязал сладкую горечь пересушенной земли, и рыбаки уже не обращали на него никакого внимания, избегая встречаться с ним глазами.
На девятый день он отступился, повиновавшись неизбежности, которую никак не мог себе объяснить. Был понедельник, день невозможный и несуществующий для жителей любого побережья. Колючки чертополоха плотно прижались к головкам цветов, и из степи надвинулись сизые, войлоком свалявшиеся облака. За окном машины текли поля, рассеченные шпалерами тополей в белых линялых гольфах. «Ах, Жорж, я заскучала», – голос размалеванной женщины томил малиновых дроздовцев, топивших свои предчувствия в разбавленном вине. Но водитель, который его вез, не слышал этого голоса. Он проследил его взгляд и кивнул головой на заросшие поля. «Раньше Богу не молились, – сказал он, мрачно усмехнувшись, – так он шел, как по заказу. Теперь молимся – хоть бы что».
В городе, два столетия назад окрашенном красной охрой, оказалось пасмурно и малолюдно. Он купил себе новый билет и больше не сворачивал его трубочкой.
Собиралась гроза; притворенные окна вторых этажей медленно моргнули отражениями низко летящих птиц. Капли ливня, как степные разведчики, упали осторожными шлепками на широкие толстые листья платанов, а потом низринулись в неисчислимом количестве и истово ударили по мостовой. Продавщицы в голубых передниках встали на порогах своих лавчушек, сложили на груди руки и, зябко поводя голыми плечами, смотрели вдоль улицы. Потоки воды, сплетаясь в косы, бурливо задерживались у стоков, как у стен неприступных, не сдающихся городов, и струились дальше в Днепр по покатым улицам, сметая тротуары. Девушки скидывали туфли и бежали босиком, мужчины шествовали так, отдавая на волю стихий ботинки, кроссовки и сандалии. Кто-то искал спасения под стенами, находил его под карнизам, на серо-сухих цементных островках, у исполинских стволов платанов, шелушащихся коричневой папиросной корой; люди забивались под пестрые зонтики кафе, изумленно озирая свои намокшие одежды и проводя ладонями по волосам.