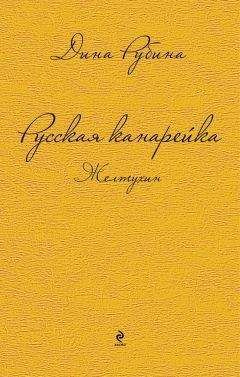Она помедлила, не оборачиваясь, склонила голову к плечу и в тон ему легко проговорила:
– Да какая там мошна, все в голод пораспродали – жить-то надо было. Так, стаканы-чашки-свечки… У них только одна ценная вещь и осталась. Но секретная, не догадаешься.
– Что за вещь? – вскинулся Сергей. У Этингеров он, кажется, все знал – с детства бывал в квартире, топил им печи, видел, что в голодные годы те, как и все, держались на честном слове, спустили на толкучке много добра. Втайне он считал, что у них и правда мало чего сохранилось, но «потрогать» и сам был не прочь, отчего не развлечься; а главное, Стешку проучить. – Интересные дела! Брильянт, что ли?
– Щас, в письменном рапорте доложусь. – Она брезгливо усмехнулась, что всегда его бесило. – А сам хрен найдешь. Но если поможешь, я те ту вещь за так отдам. За благородство.
– Ах, бла-аро-одство, – протянул он. – Я себе думаю! Смотри, не забудь. Сама знаешь: тебе тоже кое-чего поберечь стоит. Кое-какую… ценную вещь.
Так что к налету Стеша была готова. Патруль с «со провождавшими» (при румынах крутились три бабы из общежития бывших детдомовок, что на Чкалова: рыбы-прилипалы, плыли вслед новым хахалям, хватая, что приглянулось из мелочовки) Стеша встретила в дверях. Стояла в штопаной шерстяной юбке и в потертой кацавейке, застегнутой на три уродливые матерчатые пуговицы. Истошно кричала:
– Сюда, господа-домнулы дорогие, берите жидовское добро! Вон, на стол все свалила, хватайте! Всю жизнь на них горбатила! Мне самой от проклятых ничого не надо!
– Эт верно, – вдруг подтвердил Сергей. – Степанида – трудовая русская женщина. С детства тут в прислугах.
Стол в Эськиной комнате был завален добром. В этой куче сверкал натертый Стешей до блеска бронзовый канделябр, сахарница, предусмотрительно наполненная сахаром, кое-что из посуды, две фарфоровые прелестницы, деликатной щепотью приподнявшие пышные юбки, шкатулка Доры с какими-то стеклянными, «под брильянты», побрякушками. Но самым изумительным было странное – поверх всего добра – инженерной мысли сооружение, вроде шатра, из каких-то пружин, шнуров и застежек, обшитое голубым атласом небесной красоты.
(Непрошеных гостей сооружение, возможно, и озадачило, возможно, показалось даже несуразным, но мы-то, вхожие некогда в Дорину спальню и наблюдавшие, как Гаврила Оскарович – во фраке и при бабочке, – уперев колено в женину поясницу, тянет шнуры и вяжет узлы на легендарной «грудке», – мы-то сразу узнали голубые латы Орлеанской Девы и можем лишь восхититься отчаянной Стешиной предприимчивостью, заставившей случайно не выкинутый анахронизм украсить сей спектакль – то есть честно послужить семье чуть ли не тридцать лет спустя.)
Все было вмиг сметено в большое Этингерово одеяло и завязано в узел.
Пока солдаты рыскали по комнате, распахивая створки пустого буфета, бабы-детдомовки сдергивали с плечиков в шифоньере и бросали на пол какую-то одежу (и правда, бросовую, мысленно восхитился Сергей, – ах, Стешка, ну, постаралась!). А Стеша без устали приговаривала-пристанывала: проклятые, проклятые жиды, наконец свое получат, угнетатели!
Соседи вели себя по-разному. Кто в коридоре толпился – поглазеть, что там у Этингеров возьмут, – кто у себя в комнате заперся от греха подале.
Когда улов был завязан и взвален солдату на спину, второй румын, офицер, заглянул в кухню и мотнул головой в сторону антресоли.
– Спрашивает, что там, – торопливо наугад перевел Сергей.
Он считал себя знатоком румынского: знал с десяток молдавских слов и выражений, самыми убедительными из которых были «ду тэ ам пулэ!» («иди на хуй!») и «ду тэ ин кулэ!» («иди в жопу!»).
Стеша махнула рукой:
– Так то ж моя нора. И все в ней, как вот тая моя одежа…
Двумя пальцами грубой рабочей руки приподняла подол старой юбки и брезгливо этак посучила.
Румын скользнул по ней взглядом, уперся в льняную толстую косу на плече и, ухмыльнувшись, вдруг протянул руку и пощупал, словно примеривался – не унести ли и это добро из жидовской квартиры. И несколько долгих мгновений осторожно мял и гладил мягкую косу, как уважительно мнут в горсти дорогую материю в лавке колониальных товаров, любовался и вправду драгоценным отливом волос: утром – платина, ввечеру – белое золото. Наконец, с сожалением бормотнул что-то и отпустил. И Стеша глубоко вздохнула.
* * *
…Но для нее это оказалось лишь передышкой. Ибо в ту минуту, когда румыны с узлом в сопровождении Сергея спустились во двор, из арки навстречу им ввалилась небольшая толпа, которую с улицы загоняли прикладами еще трое румынских солдат с гогочущим офицером. Тот ужасно был весел и, хохоча, все повторял: «Zoo! Zoo!!!» – вытирая умильные слезы.
И было над чем посмеяться: в группе задержанных по необъяснимой ухмылке судьбы оказался низенький человечек с такой же приземистой, как он сам, таксой, мальчик с кроликом в руках и – к онемелому ужасу Стеши, наблюдавшей из окна за уходящим патрулем, – Гаврила Оскарович Этингер собственной персоной, со своим легендарным, таким же поседелым, как хозяин, кенарем, беспокойно скачущим в клетке.
Большой Этингер попал в облаву недалеко от собственного дома, куда вообще-то и направлялся своим машистым, не сминаемым годами шагом, зорко поглядывая по сторонам и, как всегда, тихонько распеваясь.
Октябрьский солнечный день, тихий и неряшливый, заметал по углам багряные листья. Город замер в нерешительности, еще не понимая, чего от румын ждать. Только по Екатерининской прогрохотали один за другим два грузовика с солдатами.
Представительный, с седым горделивым коком надо лбом, в старом своем потертом пальто с бархатным черным воротником старик явно радовался прохладному синему утру; старик Желтухин тоже чувствовал себя недурно.
Повернув к дому, Гаврила Оскарович остановился. На углу странной кучкой теснилась группа людей – принужденно и испуганно. Среди них известными ему оказались офтальмолог Коган со своей любимой таксой, декан музыковедческого отделения консерватории Ольга Абрамовна Тесслер с внуком Эмилем (именно сегодня ему купили обещанного кролика) и, наконец, бледная Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер, которую – бог ты мой! – он не видел лет десять, и как же она, бедняжка, сдала!
К Ариадне Арнольдовне он, прочищая горло, и направился, совершенно игнорируя ситуацию. А она, увидев его, не обрадовалась вовсе, а, напротив, побледнела еще сильнее и, не прерывая нервной беседы с офицером, рассматривающим ее абсолютно арийские документы, принялась строить на лице какие-то дикие отгоняющие гримасы, пытаясь не допустить приближения Гаврилы Оскаровича.
Как?! Спустя столько лет она не хочет его видеть?! – Нади-и-ин, о неуже-е-ели!..
…Так и вышло, что, обернувшись на теноровые рулады и узрев забавного старого еврея с канарейкой, смешливый офицер с воплем: «Zoo!!!» буквально согнулся от хохота пополам и, уже не обращая внимания на пылкую французскую речь Ариадны (бедняжка слышала, что румынский похож на французский и пришельцы его якобы понимают), велел загнать без разбора всех этих перепуганных клоунов во двор, который, собственно, и оказался двором Дома Этингера.
Далее все разворачивалось еще быстрее.
Неуемная Ариадна Арнольдовна (офицер уже склонялся отпустить ее восвояси) принялась горячо его убеждать, что бедный больной старик совсем безвреден и нуждается в присмотре родственников, и вот как раз, к счастью, его собственный подъезд, так что… видимо, досадила своими приставаниями настолько, что, закатив жовиальные глазки, офицер дал знак солдату прогнать надоедливую каргу. Тот, не рассчитав силы, смахнул старушку в сторону так, что она, не удержавшись на ногах, упала, да еще ударилась головой о водосточную трубу.
Это и послужило сигналом к тому, что впоследствии смешливый румын, в лицах изображая перед товарищами, называл «еврейской оперой». Рассказывая, умирал от хохота и махал руками, умоляя не перебивать, успокоиться, и останавливался, пережидая взрыв гомерического смеха однополчан, и тут же сам сгибался от визгливого бессильного хохота, припоминая, как «артист» величественно поводил рукой, будто настоящий певец.
Словом, когда прозрачная от старости Ариадна медленно, как палый лист, отлетела к водосточной трубе и опустилась на землю, вступил оркестр – неистовой гневной мощью запели медные и духовые:
– Подо-о-онки!!! – в бешенстве загремел Большой Этингер, кинувшись поднимать Ариадну Арнольдовну. – Гну-у-усные подо-о-онки!!!
Он гневно распрямился; его тенор, сохранивший благодаря ежеутренним распевкам необычайную молодую силу, взмыл из колодца двора к синему осеннему небу; белоснежный артистический кок возвышался над притихшей толпой. Кенарь Желтухин, всегда подпевавший хозяину, залился одной из самых драгоценных своих арий. В окнах всех выходивших во двор квартир показались ошалелые, озадаченные, заинтригованные, злорадные лица. Так что ложи были полны и блистали.