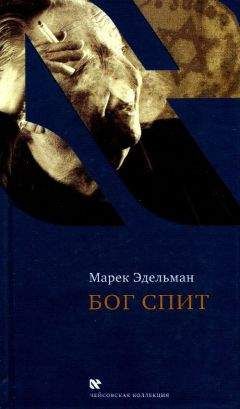Но отыскивался еще и другой пример, более значимый.
Лицо Юрия Гагарина – очень русское, распространенное в народной среде. Еще мальчиком Королев встречал в электричках и на вокзалах – а куда податься неприкаянному, как не в путь? – сумасшедших людей, старательно похожих на Гагарина. Лица их были совсем не одухотворены, как у прототипа, а, напротив, одутловаты, взвинченны и углубленны одновременно. Их мимика, сродни набухшему пасмурному небу, поглотившему свет взгляда, жила словно бы отдельно от выражения, мучительно его содрогая, выводя из себя…
Вообще, продолжал размышлять Королев, не бессмыслен быту-ющий в народе слух, что Гагарин жив, что его упрятали с глаз долой, поменяв ему лицо, поселив в какой-нибудь горе на Урале. Или – что его на небо взяли живым. Как Еноха. Как бы там ни было, в русских деревнях фотографию Гагарина можно встретить чаще, чем икону. Фотографию, на которой милым круглым лицом запечатлен первый очеловеченный взгляд на круглую мертвую планету.
Так вот, лица бомжей, встреченных Королевым на вокзалах, монтируясь в зрелище, напоминали ему о том наблюдении. Постоянно выхватываясь взглядом, приближаясь из сумерек, нарастая, опускаясь к земле, лица то размывались, то очерчивались, сгущались в фокус лица Гагарина, которое всё же ни разу не набрало отчетливости яви, – и Королев понял, что ему еще предстоит в скором будущем повстречаться с Первым космонавтом.
Кроме той бабы, ни одного рослого бомжа на вокзалах он не встретил. Снова и снова он вчитывался в записки одного военнопленного, прошедшего через концлагеря от Восточной Украины до Северной Италии. На этих страницах были рассыпаны критерии выживания, пункты психологической и физиологической дисциплины. Из них следовало, что выживают в тяжелых условиях только сухие, приученные к голоду люди. Что ширококостные сангвиники быстро теряют силу духа, впадают в уныние и сами начинают подмахивать загребущей смерти. Еще этот бедолага описывал некоторые критические случаи, предупреждая, например, что нельзя голодающим есть неспелые хлебные зерна. Он рассказывал, как группа узников, шедших по этапу среди колосящихся полей, вдруг набросилась на хлеба. И вот уже Королеву снилось, как он трет в ладонях пучок колосьев, как задыхается, кашляет от плевел, как разжевывает мякотные молочные зерна, упиваясь слюной и сытой жижей, – и как потом пухнет изнутри горой серой массы, как узлом его скручивает заворот кишок, вырастают передние зубы – и крик его протяжный присоединяется к возгласам и писку других грызунов, объевшихся неспелым хлебом.
Королев вытвердил святого Антония: «Душевные силы тогда бывают крепки, когда ослабевают телесные удовольствия» – и для входа в бродяжничество начал тренироваться: голодать и бегать. По утрам носился по Пресне, как кулан: по Заморенова к церкви, перелезал через забор, пересекал захламленный двор астрономического музея, выбирался на холмы Рочдельской улицы, Трехгорку – и рушился с нее на набережную, река излучиной увлекала его бег.
Он штудировал «Путешествие Иегуды Авитара» – поэта, под видом дервиша пересекшего в XII веке Среднюю Азию. Авитар! Ища способ избавления для народа своего – в поисках тайного колена Сынов Моисеевых, одного из десяти рассеянных, легендарного племени великанов, уединенно поселившегося за Аралом для взращивания мессии, – поэт пересек тьму пустоши. Рано осиротевший, не имевший ни семьи, ни друзей, Авитар с юных лет увлекался философией и поэзией, много путешествовал, талантом и врачеванием заслуживая гостеприимство. Целью его путешествий постепенно стало разведывание безопасных путей в Палестину. Для этого ему было нужно познакомиться с обычаями и нравами народов, встречающихся на тех или иных направлениях, и выбрать путь наименьшего сопротивления. Вдобавок он чаял передать Сынам Моисеевым сведения о страданиях своего народа, воззвать о помощи и освобождении. В пустыне он повстречался с таинственным племенем огнепоклонников – поклонявшихся огню, происходящему из мертвой материи – из земли, из недр, благодаря источению нефти или газа. Адские огнепоклонники почитали некоего Аримана и противопоставляли себя последователям Заратуштры, который требовал поклоняться чистому огню, происходящему из живого – из дерева. Напитанный путешествиями по Каспию и Аралу, Авитар был вторым после пророка Ионы поэтом в иудейской литературе, сочинившим стихи о море. Как философ Авитар стал известен лишь век спустя – благодаря Фоме Аквинскому, который до конца своих дней почитал его как христианского богослова, считая труд «Фигуры интуиции» вершиной умной веры. Легендарный образ Авитара служил Королеву подспорьем, часто единственным. Погиб поэт под копытами всадника при входе в Иерусалим, в который стремился всю жизнь. Любимая максима Авитара: «Конкретно только всеобщее». Фома Аквинский ценил мессианскую философию Авитара, считая, что так, как он ждал мессию, всякому христианину следует ждать Христа, в этом квинтэссенция веры.
Пыль песков Фарсистана, застлавшая путь Авитара, насыщала кожу Королева. В Гёмштепе поэт едва не был разоблачен Джунаид-ханом – предводителем туркменских племен, среди которых знамениты были разбойники-кандакчи: они совершали из пустыни набеги на языческий маздакский Иран, грабеж и захват рабов прикрывая священными целями. Рабов, не выкупленных родственниками, угнетатели отправляли в Хиву, на продажу. Дервишам кандакчи выдавали десятину – монетами и угощением; зазывали в юрты. Славяне, совершая морские набеги, иногда нападали на селения, сжигали их, освобождая пленных. Туркмены принимали эти походы за религиозную войну. Джунаид-хан кормил Королева одним бараньим жиром с чаем, испытывая его крепость пустынника. Вчитываясь, подгадывая момент побега из гостеприимных объятий хана, Королев готовился спуститься в пустыню улицы, как в ад, – и составлял кодекс маскировки и поведенческой самообороны.
Авитар, в своих прозрениях описывая различные стадии мистического соединения с Богом, внушил Королеву две простые мысли. Первая заключалась в том, что отказ от себя – погружение в «пропасть абсолютной бедности» – растворит личность в Боге. Вторая мысль была непростым усилением первой: поскольку всякая любовь, в том числе и любовь к Богу, эгоистична, то ради истинной любви к Богу следует избавиться от самой любви.
В ночь перед отправкой Королев узрел страшный сон. Фон его составил куб воздуха, наполненный светом и пустыми птичьими клетками. На переднем плане плыл его любимый художник Матисс – уже старый, с запущенной бородкой, в надтреснутом пенсне, – он озабоченно склонялся к невидимому предмету, затерявшемуся в зарешеченных дебрях нестерпимого солнечного света. От этой картины защемило сердце.
Постепенно приметы будущего стали одолевать Королева.
По утрам с охраняемой стоянки за новым домом, выстроенным напротив, выезжали машины, чья стоимость раза в три превышала цену его квартиры. У шлагбаума топтались и зыркали телохранители. Королев знал, что, если пройти мимо, когда выходит из машины «хозяин», можно услышать в свой адрес: «У вас шнурок развязался!» Так сметливые телохранители отвлекали его внимание от физиономии, которая могла бы ему запомниться по телевизионным выпускам новостей. Королев дважды попадался на это и впредь избегал шастать мимо.
Поздним вечером стояночная охрана выпускала собак, чутко заливавшихся ночью на чужака, который, случалось, забредал в переулок по разной нужде: срезать к метро, отлить, заплутать. Звонкие собачки – три дворняжных рыжих выблядка (чей папаша, колли Принц из соседнего подъезда, год назад сдох от рака) будили его по ночам. Жестоко неприятельствуя с пришлыми тварями, загрызая приблудных щенков, эти узкомордые собаки зорко распознавали жителей трех близлежащих домов как своих.
Но когда Королев выскочил с пыльным, отяжелевшим от хлама мешком на вытянутой руке, они гурьбой покатились на него из-под шлагбаума стоянки, проскальзывая по слякоти, царапая асфальт когтями. Королев подал голос:
– Это еще что такое…
Неудобный пыльный мешок, которым ни в коем случае нельзя было касаться одежды, отягощал вытянутую руку, торопил его к помойке. Лай псов стал перемежаться захлебывающимся рычанием, забелели клыкастые оскалы. Королев съежился и, мотнув мешком, ускорил шаг, предвкушая острую боль в лодыжке. Помойка была за домом. Собаки неистовствовали. Он оказался не готов бросить мешок и развернуться к бою.
В контейнере черными зигзагами закишели крысы, длинно сиганули одна за другой – и скрылись в дыре под грузным сугробом, привалившимся к трансформаторной будке. Псы отвлеклись на крыс, стали рыть снег, и он успел ретироваться.
Дрожь растворялась в теле, шаг летел. То, что собаки его не узнали, набросились, что они приняли его с мешком в руке за бомжа – и он испугался, не разогнал шавок ногами по мордам, а позволил им вогнать себя в шкуру бродяги, плетущегося с мешком от помойки к помойке, и позорно дал крюк через соседний двор – это его поразило, пронзило унижением. И когда вернулся с пустыми руками к подъезду, то не сразу вошел, а, сжав кулаки, прошелся в сторону стоянки, к шлагбауму. Но псы, снова выбежав на него, теперь тут же потеряли интерес, вяло замотали хвостами и подались восвояси.