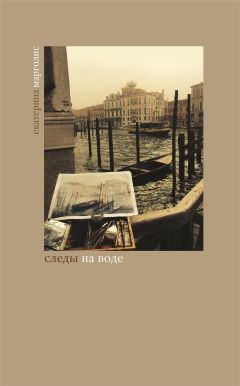– А когда выйдет книга?
– Не знаю. Надеюсь, скоро допишу.
– Да, Амос с тридцати лет утверждает, что умрет молодым и что у него очень мало времени и надо успеть, – смеется Лаура.
«Да, когда бы он ни умер, такие люди умирают молодыми», – подумала я. И снова вспомнила, что в Москве сегодня не стало Александра Лавута… Вот еще один такой – светлый, умный, неподвластный обстоятельствам, всегда молодой. И тоже 1929 года. Удивительный год был. Столько прекрасных людей он подарил миру. Именно в этом поколении так заметна цельнасть, нерастраченная, точнее, не траченная молью холености и прагматизма.
Они все уходят. За год до этого не стало Валерии Михайловны Айхенвальд. Неутомимой, яркой, остроумной, цельной, невероятной Вавы – так называли ее мы все. Я не была ее ученицей, мы с ней на разных концах одной цепи преемственности: обе ученицы Юдифи Матвеевны. Вава была у нее из первых, я – из последних. Всю свою послессылочную жизнь – а посадили и сослали Ваву в 19 лет – Вава проработала учительницей русского и литературы в школе. Три года назад она праздновала свое… трудно выговорить… 80-летие. Десятки людей собрались поздравить Ваву в маленькой квартире на Автозаводской. Впрочем, не только на юбилей, дом у Вавы открыт каждую субботу, и там всегда уйма всяких «-ка» всех возрастов: и Вовки, Мишки и Ленки от 16 до 80 дружно гудят за одним столом. Во главе этого стола сама Вава. Непрерывно курит, стряхивает пепел, окликает то одного, то другого. Пьют, поднимают бокалы, протискиваются к ней. Ее Толька, Димка (после инсульта, с неизменными голубыми глазами и детской улыбкой), Ленка, поколения и поколения учеников… А скольких не было – Алика (Есенина-Вольпина) и Эмки (Коржавина) – они в Америке, а скольких уже вообще нет, за скольких пьют, не чокаясь: Юдька (Юдифь Матвеевна Каган), Гришка (Подъяпольский), Сережка… много имен. И первый в этом ряду, конечно, ее любимый муж Юрка (тот самый Юрий Айхенвальд…). Каждый раз, при взгляде на изящную, подвижную, с короткой стрижкой красавицу Ваву, которая не носит ореол своей красоты, а просто откидывает назад голову, опрокидывает стопку водки и смеется, – как наверняка делала это 20–30–40–50 и 60 лет назад, – что-то болезненно сжимается внутри… Зачем она так рано ушла из школы, словно балерина со сцены, когда еще поколения и поколения свободных, образованных и, главное, порядочных людей она могла вырастить. Но такова была Вава – свободная, глубокая и радостная, легкая в дружбе и бесконечно требовательная к себе в работе и в жизни. Она и из жизни ушла так, как из школы. Слишком рано. А возраст тут ни при чем.
Впрочем, у Амоса-то как раз были все шансы умереть молодым.
Еврейская семья. Дедушка – профессор, видный еврейский деятель, связанный с международными организациями. Собственно, дедушка все понял еще в 1938 году, на заре первых фашистских законов, когда все еще считали, что у страха глаза велики и все обойдется. Окончательное решение пришло в 1939-м в образе телефонного мастера. В дверь их квартиры в Триесте позвонили.
– У вас сломан телефон. Меня послали наладить.
Телефон был в полном порядке. Ни папы, ни дедушки дома не было. Мастер сразу показался подозрительным, и сообразительная бабушка по-домостроевски отрапортовала:
– Спасибо вам огромное. Я не пускаю в дом никого в отсутствие мужа.
Мастер исчез навсегда, так и не поставив прослушку, но с этого дня в их подъезде стал круглосуточно дежурить полицейский.
Спустя неделю дедушка сказал: «Дело плохо. Собираемся. Я подал на палестинские туристические визы и на паспорта». Прогноз дедушки оказался верным. Паспорта не приходили, становилось все тревожнее, но в один прекрасный день им пришла посылка в красивой упаковке – якобы подарок ко дню рождения. Дома в этот момент был дедушкин аспирант (впоследствии оказалось, что он работал в тайной антифашистской группе).
– Откройте, профессор, – сказал он. – Там подарок, которому вы будете очень рады.
Десятилетний Амос навсегда запомнил выражение лица дедушки, когда он наконец открыл посылку, где лежали паспорта на всю семью. (Паспорта были настоящие, преданные студенты выкрали их из квестуры и добавили к ним поддельные печати.) Пароход на Палестину из Триеста в этот момент уже ушел, и они сумели нагнать его лишь в Бриндизи. Всю дорогу их на почтительном расстоянии сопровождали двое полицейских, возникавших то на остановке, то в поезде, то уже в порту. Когда они наконец прошли паспортный контроль и корабль отчалил, дедушка вывел внука на палубу и сказал: «Дыши воздухом свободы!»
Семья спаслась и до 1946 года жила в Палестине. Потом вернулись в Италию. Амосу было семнадцать. Он заканчивал школу, свободно говорил на иврите и по-итальянски и направил свои стопы на медицинский факультет. В 1959 году, уже будучи молодым врачом-хирургом в венецианском госпитале на Лидо, Амос был приглашен преподавать иврит дочерям в одну достаточно известную венецианскую еврейскую семью. Денег не хватало, и Амос с радостью схватился за возможность подработки. Среди его учениц оказалась восемнадцатилетняя Лаура. Через три года они поженились.
– Двадцать девятого июня будет пятьдесят четыре года со дня этой свадьбы. А тогда мне было столько, сколько позавчера исполнилось твоей Роксане. Ну давай, уже поздно. Мы пойдем домой, и ты тоже беги. Счет? Да нет, ты что? Амос уже все сделал.
Несмотря на поздний час, лавка «Гром» была еще открыта, но даже в одиннадцатом часу там толпились туристы. Мороженое из розового грейпфрута осталось по-прежнему в моих мечтах, и я поспешила домой. Переходя мост Академия, я наконец догадалась поднять глаза. В темном небе над Большим каналом сияла огромная розовая луна. И тут наконец все три разговора и даже несъеденное грейпфрутовое мороженое зазвучали общей мелодией. Большая розовая луна сияла не своим светом – отраженным.
Глава седьмая
Посеянное под снегом
Семья не была религиозной. Скорее, традиционно-христианской. Русское церковное православие, исторически обосновавшееся среди родни, родители не одобряли: считали, что это интеллигентская игра в церковь – «от противного» – вопреки безбожной власти, что разлито в ней много неискренности и ханжества и что нужна она интеллигенции по большей части для удобства жизни с собственной совестью. А уж про православную необязательность, богему, разводы и прочее дома любили говаривать: «Ну, у них, у православных, это принято». И все же вначале было поле, а вдали в трех соснах золотилась маковка церкви. Однажды случайно (с няней или с бабушкой?) оказалась на службе. Простояли минут пять и вышли. С тех пор часто взгляд уплывал за сосны на горизонте, и душа втайне знала, что ей туда. Когда же восьмилетней девочкой впервые завела речь о крещении, отец сказал расхожее, но беспроигрышное: «А когда убивали евреев в газовых камерах, где был Твой Бог?» Она не смогла ответить, да и по сей день не может. Словами это трудно. Единственного верного ответа «там, в печах» девочка не знала. И тогда родители сказали, мол, жди восемнадцати, тогда будешь решать за себя.
Ждала. Снились сосны. И они, дети, сидящие вокруг Учителя.
Знала, где родители прячут сам– и тамиздат, и жадно читала все, что проходило через дом. К десяти годам проглотила «Слово. Таинство. Образ» и другие книги отца Александра Меня. Затем пришел черед драмы со вступлением в пионеры. Она, конечно, считала себя полнейшим иудой. Хотя и благодарна была тоже: именно в ее классе оказалась смелая девочка, которая просила ее поддержки, угадав по каким-то неведомым признакам, что они единомышленники. Xeniи выпало счастье и честь дружить с ней во время бойкота, который устроили ей учителя и одноклассники за невступление в пионеры.
Шли годы, залитые ровным светом, а она просто знала: «Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим не властно соперничать небо…» Официальные запреты не пугали. До восемнадцати оставалось немного. А в Латвии на хуторе тоже был костел. Дети нередко заглядывали и туда – но снова будто бы в гости, топчась у порога. Решиться бы сделать шаг. А в какой дом – не так важно. Можно жить и на два дома. Границы между конфессиями едва ощущались как что-то реальное, а слово «экуменизм» так и осталось чужим, непонятным. Зачем? Ведь все просто – как переход с одного языка на другой. Оставалось полшага.
Восемнадцатое лето прошло. Наступил восемнадцатый сентябрь. И тут убили отца Александра Меня. Зарубили.
Новость оглушила. Встречи, которую ждала все детство, не случилось. И такая смерть. В памяти отчетливо всплыло убийство ксендза Ежи Попелюшко. Заказ КГБ просматривался со всей очевидностью. К топору зовите Русь. Официальные иерархи отмалчивались. Она с юным максимализмом решила, что после этого порога православной церкви точно переступать не хочет. Это совпало со становлением постсоветской государственной религии – точнее, распространением узаконенного язычества: от освящения автомобилей до «постных меню» в кафе. В прелом воздухе перегнившего лубочного православия все яснее проступал тлетворный дух национализма.