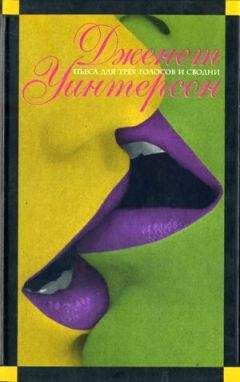– Мне лучше уйти, – сказал я, приподнимаясь. Она вдруг рассмеялась, как ожила, вскочила, дала мне стакан. Мы выпили на брудершафт, поцеловались. Глаза ее были печальны. Она разломила руками хлеб.
От одного хлеба и вина.
Среди одних стен.
От одного времени.
Она смеялась и говорила, что вот как здорово время устроено, само указывает до каких пор бодрствовать: разве, уснув рано, проснувшись от звона часов, сможешь после одиннадцати или двенадцати ударов снова уснуть? Значит, время говорит: ложись после двенадцати. Один или два удара, даже пять легко перенесешь, не проснешься. И вообще, она любит малые цифры, легко переносимые, а двенадцать – это уже тяжело, много, кажется, и не кончится никогда. Она говорила и двигалась, странная птица среди отчуждающей ее от себя роскоши, останавливалась и опять неотрывно смотрела на меня.
– Хочешь, еще погадаю? – Села рядом, взяла мою руку, перетянула меня со стула на диван. Смотрела попеременно – то на мою ладонь, то мне в глаза.
– Ты мнителен. Даже слишком. Боишься женщин.
– А их что, не надо бояться?
– Вообще-то ты нахал. Но мнительность тебя подводит.
– Спасибо.
– Любишь одиночество. Но от него быстро впадаешь в хандру. И первому встречному можешь всего себя выложить.
– Это мне за то, что душу тебе открыл?
– Быстро надоедаешь. Но бросить тебя трудно.
– Почему же трудно?
– Очень любишь то, о чем говоришь. Это и держит.
– Благодарю за откровенность.
– Не сердись. Я же сейчас не я. Гадалка это другой человек. Ты невезучий. Но настоящий.
– Не понимаю. Что – настоящий? Дурак, что ли?
Она откидывается, смеется, притягивает меня к себе за руки, целует в губы, отталкивает:
– Хоть бы… Я такая невезучая. Хоть бы попался. Ну, один раз в жизни… дурак, настоящий, роскошный, чтобы набитый и розово светился.
– Ничем помочь не могу. Я ведь, по-твоему, умный.
Не хочу быть пророком, но что-то стоит между нами, равное по горечи и тяжести ее пришедшей в этот мир самой по себе прекрасной жизни. Выходит, мы оба с ней одного рода. Может, спаслись друг для друга? Пугает это или радует?
Бьет одиннадцать.
Маятник напольных часов подобен гильотине. Издает шипение и слабый скрежет, как нож, приближающийся к горлу.
– Не боишься спать при этом скрежете? Он же каждый раз напоминает, что время жизни сокращается с такой ножевой ощутимостью.
– Неужели, правда, что больше всего боятся смерти самоубийцы?
– Ты уже прочно зачислила меня в их компанию?
– Боже упаси. Но настоящих людей отличает, что они спокойно об этом рассуждают, и потому будут жить долго.
– В том-то и дело, что я должен держать семейную марку. Прадед, имя которого я ношу, прожил девяносто шесть лет.
– Это что, обычай такой – давать имя по прадеду?
– Да, у евреев такой обычай.
– Ты что, еврей? Но у них самоубийство самый тяжкий грех.
– Чего ты так заботишься о моей жизни? А то, что я еврей, тебя не смущает?
Сказал и сам удивился. Обычно этой темы я не касался в разговоре с людьми, которых недостаточно знал. Это мгновенно выступало ожогом со стороны свитка Торы, вшитого бабушкой в мои брюки. Вероятно, какое-то пробужденное во мне необъяснимое доверие к сидящему передо мной существу, заставило меня это произнести.
– Да о чем ты говоришь? Моего отца – подростка спас во время блокады наш по сей день лучший друг врач Авраам Исаакович.
– Тебе, естественно, известно понятие «алгоритм», – некий порядок действий, который должен привести к желаемому результату. Так вот, я пришел к выводу, что алгоритм у евреев ведет их гораздо быстрее к необходимому результату. Ну, положим, в области медицины, физики, особенно ядерной. Музыки, шахмат. Но если взять порядок действий в жизни, который должен привести к себе, настоящему, тут часто в алгоритме еврея возникают ошибки, и ведут его к провалу. Пример, жизнь величайшего физика Ландау.
– Ну, он же попал в аварию. Это случайность, – сказала она, нервно двигаясь по комнате.
– Да, Стендаль говорил, что жизнью управляет его величество Случай. Но тебе ли верить в случайность? Ты же в музее Достоевского мне, по сути, незнакомому человеку, сказала: не поможет.
– Думаешь, трудно было увидеть, как ты надеялся, перерисовывая латинские буквы?
– Чего ты носишься из угла в угол? Тоже надеешься?
– Ты лучше прими ванну. Я уже налила воду и взбила пену. Сразу расслабишься. Приучайся к домашнему уюту, геолог, ветру и солнцу брат, как поется в песне.
В жизни не купался в такой огромной ванне. Розовой дрёмой исходит кафель стен. Идя к купели в горах нагишом, я не испытывал никакого стеснения. Здесь же, в таких безопасных стенах, по шею погруженный в горячую пахучую воду, я ощущаю щемящую тревогу. Замерло сердце. Она входит и сбрасывает халатик.
* * *
Бьет двенадцать.
Вскакиваю в темноте, в комнатке, где сплю со времени возвращения из эвакуации в родной не пострадавший от войны дом. Справа должна быть стена, левее дверь в комнату, где спят мама и бабушка. Надо спустить влево ноги с кровати, опереться об оконный косяк. Но неожиданно проваливаюсь в пустоту, и тут же совсем близко, почти над ухом, ударяет настойчиво медь. Но этого не может быть, ведь колокольня моего детства отсюда за нескольких кварталов.
В следующий миг прихожу в себя. Под руку беззвучно выплывает стул. Натыкаюсь на портьеру. Окно приоткрыто. Дождя как будто нет, но снизу тянет сыростью, и стоит вдалеке, не дрогнув, белесоватый, безжизненный свет всё еще не свершившегося всю ночь не гаснущего дня, как будто дотлевает он, и никак не может дотлеть, и тяжко ему от этого, да никуда не деться.
Слабый сырой свет едва устанавливается в уходящую далеко в темень краями комнату. Она спит рядом, на боку, и так беспомощно протянута ко мне ее рука раскрытой ладонью, что понимаю, большего счастья у меня не будет.
Так можно ли спать, когда лучшие минуты жизни скользят мимо, и каждую можно отличить, отдельно запомнить до мельчайших подробностей. И пусть вольется в изгибы души моей эта ночь, потому что чувствую, как остро мое зрение в темноте, как хищно открылся мой слух. Влажно прошелестел по улице шинами автомобиль, слабый свет фар мелькнул по стене над кроватью, как будто бродяжий дух дороги пытается хотя бы ночным зайчиком прилепиться к уюту недвижных спящих вещей, как будто знает, где притаилось неслыханное, едва переносимое счастье.
Вот снова пошел дождь.
И я, не зная ни улицы, ни дома, ни квартиры, где нахожусь, по звуку дождя, капель, определяю, где край крыши. Вот – дерево, вот – трубы, вот – асфальт. По звукам существует множество как бы отдельных дождей, живущих обособленно и целиком в себе. Вдоль дома падает крупный, узкий, карнизный дождь. Рядом шуршит асфальтовый, ровный, переходя в древесный, внутри которого разные пласты дождя. Более крупные капли падают с листа на лист, более мелкие просеиваются мимо листьев. Поодаль слышен дощатый дождь, видно там какие-то сараи. Еще дальше – толь. Под самым домой – жестяной, наверно, бьет по козырькам над подвальными окнами.
Эта ночь энциклопедична по части природы и души человеческой. Она совсем по-иному строит знакомое, пройденное мною пространство жизни. И в нем колокольня детства высится рядом. Отчетливо вижу жесть зеленого купола, швы, даже местами облупившуюся краску, почерневшие с прозеленью колокола. А ведь всего один раз, трепеща от страха, с ребятами пролез наверх, и вовсе об этом забыл. А вот же, открылось в памяти. Вижу сверху такие близкие домики, как будто притиснутые колокольней к земле. Окна с наличниками, тесовые крыши. Даже фасон одной, с маленькими скатами между черными большими. А ведь этих домов давно нет в помине. Новые пятиэтажные на их месте. Но вижу те домики отчетливо, как в окуляры бинокля. И рядом – чердак моего дома, и впервые за столько лет четок цвет беззвучного пламени в щели, как бы приподымающего и покачивающего весь чердак. И таким далеким кажется мне день, когда я ступил в этот дождь на перрон Московского вокзала, а затем поспешил на Невский проспект. Совсем стерся с памяти вчерашний вечер, когда я ел в столовой, недалеко от общежития не помню, что ел, ни вкуса, ни цвета. Но – протяни руку – и отчетлив стол, заставленный питьем и закуской, именины Лениной подружки. Вижу начатое блюдо с винегретом, и бокалы вокруг. Даже могу вспомнить каждый флакон, бутылочки и щетки в туалете у вовсе забытой подружки, куда втолкнула меня Лена – охладиться после того, как снял с нее сапожки.
Целые периоды жизни выпали из памяти, но она, дочь школьной уборщицы, – передо мной. Нагнувшись, ловко управляется тряпкой. Я вижу ее ноги, такие крепкие. И в непривычно пустынном классе так слабо и радостно пахнет свежестью, чистой водой, сухим солнцем, светящейся белизной ее ног, и я не отвожу глаз от них у спящей рядом, откинувшей покрывало и до такой степени доверившейся мне.
Бьет два.