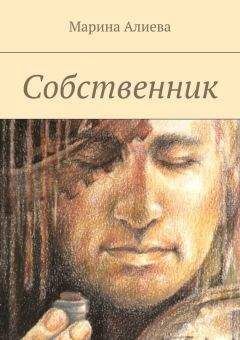Моя мечта, моя «Принцесса Грёза» располнела, обабилась, поникла под тяжестью рыночных кошелок. В когда-то огромных, уже не детских глазах, безразличие и отупение вместо мечтательности… Какой стыд я тогда почувствовал! Как презрительно подумал о ней! А теперь… Теперь я должен это написать! Вот сейчас, когда немного отпустило, и сердце моё забилось чаще, можно и должно признаться – не я ли указал ей путь к этой потускневшей тетке? Ведь и она томилась влюбленностью – это было видно, что уж тут скрывать! Но я, вместо того, чтобы бросать ей на балкон цветы, петь серенады и совершать безумства, достойные дона Кихоты, своей дерматиновой папочкой со шнурками, создал в её девичьем сознании мечту о человеке взрослом и серьезном, (каким, по сути, никогда не являлся)! И потом, когда не сложилось, она искала именно такого – мечту юности, своего «Принца Грёзу» – и, видимо, нашла. Нашла зануду с папочкой, ничем не утолившего её мечтательность… Вот сейчас бы и чувствовать стыд, и думать презрительно, но только о себе.
Что за жизнь я прожил? Копался в Истории, «плавал в реке Времени», как говорил всем, возвращал жизнь старым, ненужным вещам… И что? Сейчас мне необходима опора, чтобы бороться против душного кокона, в который затягивает эликсир, а опоры этой нет. Все, что казалось важным при обычной жизни, вдруг помертвело, и, как то золото из сказки, превратилось в черепки… Только Санька и остался.
Может, меньше надо было увлекаться антиквариатом и прислушиваться к мертвым голосам из прошлого? Разве менее интересен живой человек – этот голос будущего, которое становится подвластно нам, если мы вовремя проявим участие, согреем теплом, добрым словом…
Как мне жаль, что все так поздно!».
«Сегодня еле-еле справился с приступом ярости. Они становятся все чаще.
Прости, Санька! Я с трудом выношу себя ТАКОГО, и не могу допустить, чтобы ты меня таким увидел. Сегодня позвал к себе Алексея. Отдам ему эту тетрадь.
Все сошлось одно к одному. Вчера звонил Довгер, предупреждал насчет Коли Гольданцева. Значит, надо торопиться…
Немного страшно.
Хотя, что такое, в сущности, смерть? Всего лишь переход организма в другое состояние…
Хотелось бы в это верить…».
Это была последняя запись, и я закрыл книгу.
Как там было у Булгакова? «Как причудливо тасуется колода»? Да, именно так. И, хотя он имел в виду людские судьбы, я теми же словами могу сказать и о людских поступках…
Впрочем, ведь из поступков судьба и складывается, не так ли? А из их перетасовки рождаются, наверное, мотивы и побуждения для поступков новых. Вся фишка, вероятно, в самом первом, определяющем шаге, который ты делаешь.
Мою колоду тасовали или слишком небрежно, или, наоборот, слишком тщательно, безжалостно теряя, или отбрасывая, все то, что не должно было мешать вершиться предначертанному.
В тот миг, когда я закрыл дядины записи, из моей колоды выпала, ещё не написанная, но уже ненужная новая книга. Да и вообще, я стал сомневаться, имею ли право считать себя писателем после всей пошлой писанины, пригодной только для того, чтобы убить время. Новая книга, несмотря на амбициозные планы, вряд ли стала бы лучше. Я понял это сразу, как только дочитал до конца последнюю строчку дядиной тетради. Слишком разителен был контраст между нынешним душевным волнением и тем болотно-ленивым состоянием, в котором я жил последние годы. И, несмотря на случившийся эмоциональный шок, (а может быть, именно благодаря ему), собственное творческое бессилие стало абсолютно очевидным. Мне следовало сначала дорасти до того уровня, на котором я так недолго продержался после чеченской командировки, а потом только решать, имею ли я право хоть что-то говорить людям… Иначе говоря, прежде всего, требовалось привести в порядок книгу собственной жизни.
Но, увы, сейчас, когда я вспоминаю все это, я уже знаю, как глупо и небрежно мы все её пишем. Пишем с закрытыми глазами, имея возможность подсмотреть только уже написанное. Из-под руки же выходят слепые, сиюминутно пришедшие на ум, фразы. Ошибки в них допускают и те, кто строчит, не задумываясь, и те, кто размышляет над каждым словом.
Я уже давно не из тех, кто задумывается. Отвык. Если вообще когда-нибудь это умел. Поэтому, и в тот момент, вычеркнув себя из рядов людей творческих, сразу, с ходу, определил, что делать дальше.
Прежде всего, сожгу дневник, чтобы никакому Гольданцеву не достался… Или нет, сначала приберусь, потом сожгу дневник и, раз и навсегда, удалю из компьютера всю свою писанину. Потом дождусь Екатерину, женюсь, заведу семью… Нет, сначала устроюсь на работу. Можно корректором в прежнее издательство, или в любое другое, куда возьмут… Ай, ладно! Приедет Екатерина – разберемся.
А может, мне, вместе с дневником, сжечь и собственные, уже написанные книги? Гоголевщина, конечно, но новую жизнь нужно начинать с чистого листа. Оставлю только первую книгу, в которой «вышел весь»…
А может, мне и дядины записки не сжигать? Пусть останутся, как отрезвляющая пощечина, и, если снова взбредет в голову блажь возомнить себя невесть кем, я сам себе её залеплю – перечитаю, чтобы опомниться.
В ту ночь так и не смог заснуть.
Чтобы не валяться, как Обломов, стал раскладывать вещи по местам, без конца вспоминая прочитанное и злясь на Довгера за вырванные страницы. А утром, когда ожили лифт и подъезд, наспех умылся холодной водой, оделся потеплее и поехал на кладбище.
В спортивной сумке я нес складную саперную лопатку и прямоугольную жестяную банку с видом Кремля, в которую положил дядин дневник, предварительно завернутый в полиэтилен. У входа на кладбище купил скромный венок из искусственных еловых веток и решительно зашагал по длинной скорбной аллее.
Здесь я не был уже очень давно, со времен первого крупного гонорара, часть из которого пошла на достойный памятник и ограду. Почему-то думалось, что всё таким и осталось – чистым, новым, ухоженным, и я совсем не был готов к тому запустению и той убогости, какие нашел.
Стало невыносимо стыдно.
Дядина фотография совершенно выцвела и утратила полутона. Но улыбку, Василия Львовича, его добродушную улыбку, напомнить ещё была в состоянии.
«Здравствуй, дядя Вася, – мысленно сказал я. – Прости за то, что редко появлялся. Но ты ведь и сам не слишком любил ходить на кладбища. Сам говорил, что любимых людей хранят в сердце, а не в земле… Я виноват перед тобой – не выполнил той единственной малости, о которой ты просил, и сейчас пришел, чтобы не выполнить и другой просьбы. Но главное я понял, и в этом, как мне кажется, лежит искупление. Может даже лучше, что я не спустил Гольданцева с лестницы и все узнал. Черт с ними, с эликсирами! Я ведь узнал и нового тебя, дорогой дядя… А теперь, прости, мне нужно сделать то, зачем я пришел».
Рядом была совершенно заброшенная могила с покосившейся ржавой пирамидой памятника. Невозможно было прочитать, кто тут лежит – мужчина или женщина. Не было и фотографии. Только земляной холм, напоминающий, что когда-то сюда зарыли умершего человека, о котором больше никто не вспомнил. Грустное зрелище, но мне некогда было грустить.
Я обошел могилу дяди, перешагнул через цепь ограды и остановился возле куста сирени, раскинувшего ветки над обоими умершими. Здесь самое подходящее место! Даже отломившаяся от ржавого памятника звезда могла пригодиться.
Я выкопал яму по размеру жестяной коробки, открыл крышку и ещё раз посмотрел на дядину тетрадь, словно не был уверен, что она там и хотел убедиться. Потом закопал жестянку, вместе с дневником, утрамбовал хорошенько землю и воткнул сверху звезду. А купленный венок положил на безымянную могилу.
Все! Больше никто, ни Гольданцев, ни какой-нибудь другой ученый фанатик, эти записки не увидит! Неизвестный покойник, или покойница, сохранят его, вместе с моим дядей какое-то время, а потом – пусть только утрясется история с Гольданцевым – я сам стану их хранить, лучше и надежней любой могилы. И порукой тому моя вина перед Василием Львовичем.
Я обтряхнул землю с лопатки, сложил её, бросил в сумку.
Скамейка, которую когда-то собственноручно вкопал, раскололась надвое и покосилась, но сидеть на ней ещё было можно. Почему-то захотелось побыть здесь какое-то время, посидеть, подумать… Что там говорил Гольданцев? Все мы гости и должны достойно уйти? Не мешало бы ему самому об этом задуматься.
Я снова взглянул на дядину фотографию и поразился вдруг пришедшей мне в голову, довольно странной мысли – а почему, собственно, все мы так боимся Гольданцева? Может, он рвется любой ценой получить нейтрализатор только потому, что не представляет себе его сути? А вот, когда узнает и поймет…
Воображение тут же нарисовало пасторальную картинку: я объясняю, что нейтрализовать разрушающее действие Абсолютного эликсира можно только через убийство какого-нибудь, ни в чем не повинного бедолаги, и Гольданцев, с рыданиями, отказывается от своих замыслов по созданию нового человечества. Ха! Нет, этот не откажется! Достаточно вспомнить его лицо. «На пороге дела всей своей жизни я ни перед чем не остановлюсь». И он, пожалуй не остановится, пока не проверит и не перепроверит. Ему ни в коем случае нельзя ничего говорить. А то, ещё чего доброго, опрыскает меня исподтишка Абсолютным эликсиром и, ради сохранения жизни, заставит кого-нибудь убить. Вот ужас-то будет! Я ведь не смогу, лучше умру, как дядя. И тогда он найдет другого дурака…