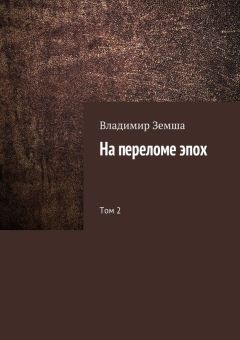Лейтенанты ворвались внутрь… Однако, словно по команде, все двери в комнаты на первом этаже захлопнулись. А толпа мелких щуплых загорелых обитателей, некоторые с палками, нерешительно кучковались на лестничной клетке, ведущей на второй этаж. При приближении рослых русских парней, они вставали в смешные угрожающие стойки, однако вскоре же, ретируясь, пятились вверх по ступеням, подобно стае бандерлогов из мультика про Маугли.
Немного пошумев на первом этаже, удовлетворившись наведённым в общаге «шухером», наши «герои-мстители» вывалились на улицу. Однако тут их ждал сюрприз. Эти выходцы «далёкого тёплого Вьетнама», ещё хранили в себе память тех далёких дней американской агрессии и выработанного чувства коллективизма, как залога выживания.
Из открытых окон второго этажа на лейтенантов обрушился шквал из пустых бутылок. Они было стали подымать их и швырять назад…
– Бросьте! Бежим! – крикнул кто-то из них, более резонный, в этой неразберихе.
Из-за угла дома вдогонку вылетела толпа вооружённых палками вьетнамцев. Хлопцы кинулись наутёк, перепрыгивая лихо препятствия на пути.
– Я так ещё никогда в жизни ещё не бегал! – признался Майер, тяжело переводя дыхание, когда коротконогая стая вьетнамцев отстала, изрыгая яростные проклятия вслед и тряся палками…
– А я подумал уже, что всё, хана нам пришла, – Тимофеев сплюнул.
– Эх, Васка-Васка! – Мамука хлопнул прапорщика Ваську по спине. – Всё равно мы… а! – он махнул рукой, не найдя нужных слов, что бы выразить своё разочарование от случившегося…
Да, уж! Такое вот совершенно неразумное ребячество. Ребячество, граничащее с серьёзным проступком, если не шагом к преступлению закона, способным повлечь слишком серьёзные последствия, не совместимые с обликом коммуниста, советского офицера, да и просто нормального современного человека, с другой-то стороны, как кто-то обязательно скажет. А с одной из сторон, где находились наши герои, им был всё же не ведом иной способ обуздания буйных нравов неразумных «Хазар»!.. Лишь чувство коллективной ответственности друг за друга, толкнуло их на этот безрассудный поступок. Им было жаль одного, что это тебе не училище, не подымешь роту «на бой праведный». Кто тут рассудит, где же она абсолютная истина? Да нет её, попросту. Тут уж с какой стороны посмотреть, что важнее, постоять за сотоварища, что бы и как там ни было, следуя инстинкту сохранения и выживании «своего» социума, либо, следуя принципам эгоистической «объективности», не вмешиваться в «чужие дела», по восстановлению «статус-кво». Но если ты этого не станешь делать, что же завтра может случиться с тобой самим? Что, если никто из «своих» не вступится за тебя? Но часто так и бывает. Ибо, дабы не вмешиваться, эгоисты предпочитают найти поводы, что бы лучше обвинить вас, типа, «он сам был виноват», или что-то в этом роде… Но сколько людей, столько и мнений и каждый оправдывает именно свой поступок или даже проступок, а порой и подлое малодушие и даже преступление.
1.30 (87.10.10.) Самосожжение
Сентябрь 1987 г. Ружомберок
Офицерская общага
Прага, я не могу на твоём не споткнуться пороге:
Здесь брусчатка, как реквием, скорбно звучит под ногой…
Чешский мальчик горел, а у нас проступали ожоги,
Будто Ян – это я, это я, а не кто-то другой…
Поэт Ольга Бешенковская (1947–2006)
После «обломной» забавы и шального «штурма» вьетнамского общежития, лейтенанты спали в обнимку как обычно со своими дорогими перьевыми подушками, заботливо выданными им КЭЧем[82].
Тимофеев шагал по городу, опьянённый всем тем, что его окружало!
«Dvadsať rokov a je poručík», – эта ранее отпущенная ему фраза благозвонно отстукивалась в его черепе, наполняя оный гордостью за себя, такого юного, но уже «целого поручика». Такая интерпретация его лейтенантского звания на «белогвардейский манер» ему даже льстила. Тем паче, что они, советские офицеры 80-х, где-то подсознательно отождествляли себя с дореволюционными белыми офицерами… Зимний воздух наполнял легкие бодрящей свежестью. Было безумно хорошо и юная плоть словно хотела выскочить наружу из лейтенанта, придавая его походке подпружиненность.
Увидев уже знакомую «реставрацию», Тимофеев зашёл внутрь заведения, приятно наполненного уже знакомым запахом свежего пива, копчёного сыра и чем-то ещё, трудно определимым, но вполне приятным. За чистыми столами, накрытыми белоснежными скатертями, оживлённо и громко разговаривали разные люди. Едва ли он хотел пива, которое если и пил, то делал это исключительно машинально, или за компанию, сейчас он скорее желал просто чего-то перекусить. И вскоре ему принесли кнедлики из теста с пареными кусочками говядины, залитые коричневым соусом и бокал пенистого ароматного пива. Тимофеев не любил эти самые «кнедлики», напоминающие просто куски белого пареного хлеба без корочки. Но они сытно набивали голодный лейтенантский желудок. Он ел почти не чувствуя вкуса. Вскоре тарелка была пуста. Последним кусочком кнедлика, наколотого на вилку, Тимофеев аккуратно вымакал остатки ароматного коричневого соуса в тарелке, который любил лишь с голодухи, положил в рот. Рука машинально потянулась за привычным компотом, но, отхлебнув горького ароматного пива вместо, лейтенант поморщился.
– Nelíbí československé pivo?[83] – услышал он сзади.
Обернулся. Это был светловолосый юноша.
– Na, vezmite si ju[84], – он протянул ему какой-то свёрток.
– Pošlite mi ju domov, оnde Pošta.
Тимофеев обернулся и, увидев вдали почтамт, всё понял,
– Ты кцеш, чтобы я все эти твои паперы отправил почтой?
– Tak, áno.
– А чё, ты сам не можешь? Что это ещё за бред?
– Nemohu, moje ruce jsou zaneprázdněné, – молодой человек поставил на мостовую пластиковую бутылку, от которой несло бензином.
– Чего-о-о-о? А-а-а-а, руки, говоришь, заняты? Так, что ли?
Молодой человек кивнул головой, взял пластиковую бутылку, и неторопливо посеменил на середину площади, вдруг остановился, показал Тимофееву фигу, и облил себя.
– Во, больной! – Тимофеев повертел в руках бумажки, сунутые парнем, хотел выбросить, но, не найдя мусорки по близости, сунул в полевую сумку. В следующий момент бегущий по мостовой к тротуару факел человеческой фигуры привлёк его внимание.
– Во, чёрт! Точно больной! – Тимофеев кинулся факелу наперерез, снимая на ходу шинель.
Прохожие глазели на происходящее, оцепенев от ужаса. Парень пытался сбить с себя пламя, размахивал руками, затем, споткнувшись или потеряв сознание, рухнул. Тимофеев кинулся к нему. Каждое движение давалось с трудом, словно пространства вокруг было наполнено гелем, и, накинув на него свою шинель, он сбил пламя. Из-под шинели валил густой едкий дым, запах палёного человеческого тела противно проникал в ноздри. Обгоревшая одежда паренька приварилась к его коже, представлявшей кровавое месиво. Парень тяжело дышал.
– Тебе больно? Зачем ты это сделал? – Тимофеев стоял перед ним, опустившись на колено. Парень молча смотрел на советского лейтенанта.
– Скольки тебе рокив? – Тимофеев хотел машинально взять парня за кисть, но, поняв, что доставит ему этим боль, одернул руку.
– Dvadsať, – паренёк буквально выдохнул и, скривившись, заплакал.
– Двадцать!? Яки и мне! А яко севилаш? – спросил Тимофеев его имя.
– Jan, Jan Palach,
– Держись, Ян! Але всё будет добре!
Вокруг суетились люди, уже был слышен рёв сигналов скорой помощи.
– Nechcem, Nechcem umrieť. Nechcem, aby na niekoho iného zomrel, – хриплым, полным отчаяния в голосе выговорил мальчишка.
– Держись! Только не умирай! Псих ты сумасшедший! Точно больной на голову! Вот чёрт!
Тимофеева оттеснили люди в белых халатах и всё вокруг наполнилось людьми, которые потащили корчащегося от боли юношу как крест по площади, что-то скандируя…Юноша пытался им возразить, но его никто не слышал…
Раздался странный сухой треск сирены…
Тимофеев подскочил с кровати и стукнул разрывающийся в своей истерике будильник…
«Ну и соснил!» – Тимофеев вытер лоб.
1.31 (87.07.) Прошлое. Свободный билет
Июль 1987 г. ТуркВО[85] Алма-Ата
Выпуск АВОКУ[86]
– Почём дыни? – лейтенант-выпускник Алма-Атинского Высшего Военного Общевойскового Училища Александр Майер с наслаждением втянул в себя божественный аромат, наполнявший проспект Абая[87].
Продавец высунулся из-за «дынной» горы.
– Выбирай, командир! Договоримся! – немолодой казах, со знанием дела, стал вытаскивать жёлтые с трещинами овалы узбекских[88] дынь, проверяя их спелость на ощупь.
Первая офицерская покупка! Александр сунул в карман парадного галифе сдачу, бросил в сетку две жёлтые красавицы. Неплохой подарок из солнечной Алма-Аты!..
Александр, голубоглазый крепкого телосложения алмаатинец, здесь не сильно выделялся своей славянской внешностью. Такого вида как он «коренных алмаатинцев» сейчас, в восьмидесятые, здесь большинство. Что скажешь, старый русский казачий город-крепость «Верный», переименованные позднее в «Отца Яблок» – «Алма-Ату»[89], притягивал к себе многие годы Советской Власти людей со всей «необъятной»!..