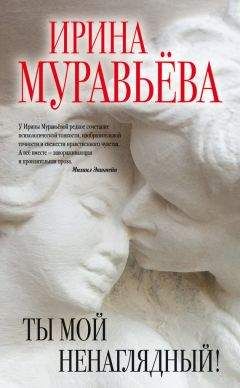«Теперь мы поженимся, – сладко замирая, подумала Виола. – Я с мамой его познакомлюсь…»
На следующий день они столкнулись в раздевалке, но он прошел мимо, как будто не заметил ее. Она долго рыдала в уборной, закрывшись в кабинке и зажимая рот шарфом, чтобы никто не услышал, потом медленно побрела домой. Назавтра повторилось то же самое. Если бы не привычка к боли и страху и не постоянная готовность к унижению, Виола могла бы наделать отчаянных глупостей, могла подойти и спросить, что случилось… Она не спросила и не подошла. Но через месяц, когда у нее у самой наступила та самая «задержка», с которой старшие и опытные подруги немедленно садились в кипяток и ели одну за другой аскорбинки, она, закусивши губу – как делал отец ее, Беня Скуркович, зачавший Виолу в горах Буковины, – пошла на прием к гинекологу.
Гинеколог оказался мужчиной с большими и очень волосатыми руками, который, как только они погрузились в покорное тело несчастной Виолы, вдруг начал сердито ворочать глазами. Потом сказал:
– Замужем? Нет? Оставляешь?
– Что я оставляю? – спросила Виола.
– Не «что», а «кого»! – оборвал гинеколог. – Ребенка рожать собираешься или…
– Да, я собираюсь, – сказала Виола.
– Тогда – на учет, – приказал гинеколог.
Она возвращалась домой, как на смерть. Она шла на смерть, и вокруг это знали, поэтому солнце ее обходило и быстро ложилось на спину трамвая, на мерзлое дерево, на голубятню, но не на Виолу с ребенком во чреве. Ее обходили животные, люди, при виде ее гасли синие окна (нигде ни одной ни руки, ни улыбки!); она шла по городу так, словно уголь насквозь прожигал ей ступни, а в затылок смотрел кто-то тот, кто ее ненавидел.
Семья Вольпиных как раз усаживалась за стол, собираясь обедать.
– Ты руки помыла? – спросила Адела.
Виола пошла в ванную и вымыла руки.
– Помыла? Садись. Я тебе наливаю, – сказала Адела.
От половника, погрузившегося в огненный борщ и вынырнувшего из него ярко-красным, со свисающими по бокам розовыми полосками капусты, валил мощный пар, как от локомотива.
«Сейчас я скажу им, сейчас я скажу…»
– Ты что там бубнишь? – протянула Адела и сахарно расхохоталась Алеше: – Ты видел? Бубнит себе: «бу-бу, бубу, бу-бу-бу, бубу»!
И очень похоже ее показала. Марат Моисеич нахмурился:
– Виола, ты что, не дай бог, заболела?
«Сейчас я скажу… я скажу им, сейчас я…»
– Мне что, покормить тебя, как в детском садике? – немного темнея, спросила Адела.
– А я жду ребенка, – сказала Виола.
– Какого ребенка? – спросила Адела и стала вдруг черной.
Марат Моисеевич выронил ложку.
Виола закрыла лицо руками и разрыдалась.
– Нет, ты подожди тут рыдать! – захрипела Адела. – Какого ребенка ты ждешь? От кого?
Виола попыталась было встать со стула, но каменная материнская рука, больно упавшая на плечо, остановила ее.
– Адела, спокойно, – сказал граф Данило.
– Марат, помолчи! – закричала Адела. – Так я повторяю: какого ребенка?
От слез ее дочь не могла говорить.
– Смотри мне в глаза, – закричала Адела. – Ты с кем там связалась? А, шлюха? А, сволочь?
На лицо Виолы посыпались пощечины. Их скорость была такова, что даже Марат Моисеевич ахнул.
– Адела, не смей! Ты ее изуродуешь!
Адела задохнулась и тяжело упала на стул.
– Да будь же ты проклята, сука!
И вновь поднялась: великанша. И руку, атласную, белую руку с мучнистой, дрожащей и дряблой подмышкой, воздела наверх высоко, как священник:
– Навеки будь проклята! Чтобы ты сдохла!
Прошло семь месяцев. За это время Адела не сказала ни одного слова ни дочери своей Виоле, ни мужу Марату, как будто и он был виновен в ребенке. Алешу любила по-прежнему, страстно. Когда живот одинокой Виолы начал вылезать из-под любой одежды, а щеки ее пожелтели и больше нельзя было скрыть этот ужас, Адела легла на кровать, поставила на грудь телефон и за один вечер переговорила со всеми знакомыми в Новосибирске. На следующий день позвонила в Москву и тоже там все объяснила.
– Она у меня так воспитана, – пела Адела, – ну, вы же прекрасно все знаете! Она же ребенок, наивный ребенок! А он приходил, предложение сделал, кольцо подарил… Он нас всех оболванил! Готовились к свадьбе… Ах, я говорила! Поверьте: я все, как могла, объяснила! Нельзя, говорю я, нельзя, чтоб до свадьбы… Ну, вы понимаете… В наше-то время… Да я бы домой не посмела явиться с таким вот позором! Да что вы! Меня бы… Да мама меня задушила бы просто! Своими руками меня задушила! Я ей говорю: ведь позор на весь город! Ведь ты опозорила нас! Мы актеры, на нас ведь равняются, нас уважают! Но вот вы поймите: решила, и всё тут! Нет, буду рожать! А сама ведь ребенок… Ну, я понимаю: ну, шлюхи приносят детей в подолах, но моя-то? Ребенок!
На восьмом месяце у Виолы возникла та же самая угроза «непреднамеренного прерывания беременности», с которой когда-то попала в больницу ее разъяренная мама Адела.
Виола лежала в палате на десять человек, за окном стояла жара, нечастая в городе Новосибирске, и ноги Виолы – короткие, покрытые светло-черными волосками, маленькие и ловкие ноги – были задраны высоко вверх, поскольку считалось, что в этой позиции младенцу непросто пробраться наружу. Вставать разрешалось один раз в день, чтобы пройтись по длинному коридору, где вдоль стен лежали те, которым не хватило места в палате, но тихо пройтись, осторожно, держась за живот с заключенным в нем плодом.
За полтора месяца Адела не навестила свою дочь ни разу, но папа Марат Моисеич со скорбно опущенным ртом приходил и молча, не глядя на ноги Виолы, которые очень бросались в глаза, с тоской и печалию ставил на столик бульон с пирожком, и кисель, и бруснику, протертую лично Аделою, с сахаром. Потом приходил брат Алеша и, тоже не глядя на ноги сестры, выгружал то банку с пюре и парные котлетки, то студень телячий, то блинчики с мясом. У соседок по палате складывалось впечатление, что Адела, ни разу не навестившая измученную ожиданием и страхом Виолу, стоит у плиты днем и ночью.
Виола, рыдая, съедала котлетку, потом отпивала немного компота, а что оставалось, давала соседкам. Те брали. Назавтра она получала все свежее.
До родов оставалось две недели, когда Адела собралась и уехала в Москву. Брат был уже вдов – та, любимая женщина внезапно скончалась совсем молодою, – у брата была тоже дочка-подросток, машина «Победа», и теща, и дача. Адела лежала в старом, сером от сырости гамаке, продавливая его почти до земли своим большим, обтянутым крепдешином телом, а теща – мать нежно любимой умершей, – с зажатою в тонких губах папиросой, почти что погасшей, стояла с ней рядом и стригла кусты.
– Не знаю, – говорила Адела и черными остановившимися зрачками смотрела на светлое небо, – не знаю, как будет Виола с ребенком. И кто ей поможет, я тоже не знаю. Сама виновата, и нас опозорит. У нас даже места-то нету в квартире. Алеше нужна своя комната, верно? Марату – его кабинет. Наша спальня, столовая и проходная, там вещи. Не знаю, на что ей рассчитывать, правда!
Теща усмехалась и махала рукой. Потом они шли на террасу, садились в плетеные дряхлые кресла.
– Ты что, даже к родам домой не вернешься?
– А я вам мешаю? – вспыхивала Адела, и жгучие слезы вдруг сыпались градом.
И теща опять усмехалась.
– Я сегодня, кстати, в городе заночую, – словно вспомнив о чем-то, тянула Адела. – К открытию нужно попасть в «Детский мир». Последние деньги придется оставить! Но я не могу, чтобы этот ребенок родился и сразу – в лохмотья, в обноски! А ей наплевать, что она понимает?
В середине сентября из разрезанного живота Виолы достали здоровую крепкую девочку. Очнувшись от наркоза, Виола попросила, чтобы ей разрешили посмотреть на ребенка. Ей принесли туго спеленутую, очень маленькую, размером с батон, мать Аделу. Мать крепко спала, поэтому не было видно, какого там цвета глаза, но ресницы, и крошечный нос, и вишневые губы так явственно напоминали Аделу, как будто какой-то задумчивый скульптор, который лепил в животе у Виолы вот эти широкие скулы и веки, старался, чтобы получилась Адела.
Отец Марат Моисеич и братик Алеша с грустными и торжественными лицами выстаивали ежедневные очереди к окошку передач и посылали роженице свежие ягоды и фрукты. При этом поздравили в строгой записке. Но мать так и не появлялась. Мать словно бы канула в Лету – хотя там, в столице, какая же Лета? Одни магазины.
В пятницу Марат Моисеевич на предоставленной ему машине «Волга», принадлежащей Театру музыкальной комедии города Новосибирска, приехал в роддом и забрал дочь Виолу с недавно рожденным ребенком. Пока они ехали в новенькой «Волге», Марат Моисеич косился на сверток, в котором лежал незнакомый ребенок, и был очень сдержан, хотя и приветлив. Шофер не успел и затормозить, как с шумом подъехал таксист на машине, раздолбанной, грязной, как это бывает, когда вещь – ничья, даже если и стоит больших государственных денег. Из этой раздолбанной, грязной машины с двумя чемоданами, сумкой, пакетом, в капроновых черных перчатках и шляпе, с трудом извлекая огромное тело из жаркой кабины, возникла Адела.