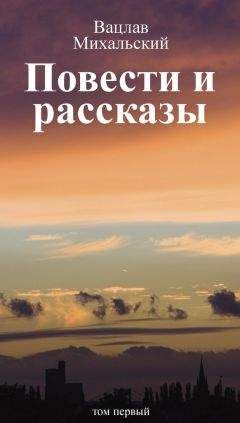На рассвете толстая, сердитая нянька принесла весть.
– Поздравляю с внуком! Богатырь! Четыре двести!
А дед заплакал.
Стекали слезы на седые усы, он улыбался и всхлипывал.
– Богатырь?! Милая ты моя, а как бы принесть? Посмотреть бы его как? Аннушка сама как?
– Ничего, ничего, дедушка, и она хорошая. А поглядеть нельзя, придет время – наглядитеся.
И ВРЕМЯ ПРИШЛО.
Когда вез невестку домой, как выехали в степь, отдал ей вожжи и сам держал младенца на руках, прикрывая красное личико от летнего солнца широкой ладонью. А матери не давал и прикоснуться.
– Не тронь, Аннушка, не тронь. Спит парень.
У поворота на тряское шоссе дед Сергей приказал остановить подводу.
– Растрясет его. Ты поезжай, а я пешочком, пешочком, чтоб не разбудился.
Аннушка хотела было возразить, но дед Сергей осек ее:
– Цыть! Поезжай! Поезжай!
И добрых три километра с внучонком на руках прошел по пыльной обочине дороги.
Дома положил его бережно в деревянную люльку, которую мастерил все эти дни. И сел возле на табуретку. И разглаживались морщины на лице старого, и наливались прежней прекрасной чернью выцветшие глаза деда Сергея.
Вот Сашка открыл глаза и заорал на всю комнату:
– Ааа-аа!
Упал стул – мать метнулась к младенцу. Сашка жадно тянул тугую грудь.
Дед Сергей потупился, отвернулся, встал, прошелся по комнате…
И увидел часы.
Заскорузлыми, дублеными пальцами мягко потянул за цепочку.
Часы пошли.
И когда большая стрелка легла на черту полного часа, старинные часы, сработанные еще одним из крепостных пращуров деда Сергея, захрипели, и через секунду-другую наполнил комнату мелодичный звон.
Бим-бом! Бим-бом! Бим-бом!
Сашка сосал грудь, посапывая и причмокивая. А часы били.
Били они громко, на весь дом, улицу, мир.
Бим-бом!
Берданка с вороненым стволом, отливающим сизоватой чернью, висит на стене. Гришка тянется к ружью, но не может оторвать голову от тяжелой подушки, которая обняла своими мягкими, по-медвежьи сильными лапами и не дает подняться. Мальчишка дергается изо всех сил и хватает ружье, но оно выскальзывает у него из рук и с грохотом падает.
Гришка открывает глаза. На полу дрожит пустая алюминиевая кастрюля, а кот Федька, сваливший ее с печки, задрав хвост, удирает в коридор.
Он боязливо поворачивается к стенке, надеясь, что, может быть, там все-таки висит ружье. Но видит жирные шеи лебедей и пальму с листьями, зелеными и круглыми, как огурцы, и толстоногую краснотелую красавицу с черной паклей распущенных волос, которая сидит на берегу синего озера в белых точках облупившейся краски. Он отворачивается от надоевшего старого ковра, нарисованного на огромном листе плотной бумаги.
Окно завешено клетчатой шалью – это мама, уходя на работу, позаботилась, чтобы сына не беспокоили мухи. Но свет пробивается в щель, солнечный столб пролег через всю комнату, в нем кружатся тысячи белых пылинок.
Гришка досадливо отбрасывает измятую простыню и выходит во двор. Влажная после ночи земля приятно холодит и щекочет босые ступни.
Солнце только вылезло из-за леса и, еще большое и багровое, качается в зыбком розовом мареве, словно переводя дух после дальней ночной дороги.
Гришка забывает свою досаду, улыбается неведомо кому и толкает ногой калитку.
Он живет на самой окраине маленького города. Их дом последний в длинном ряду улицы. Сразу через дорогу начинаются хозяйские огороды с серо-зеленой стеной кукурузы и рослыми подсолнухами, увенчанными широкими позолочеными блюдами. Многие подсолнухи уже исклеваны жадными воробьями, и от этого на их золотых головах темнеют треугольные плешины. Сразу за огородами стелется клеверное поле селекционной станции, а вдали черной каймой идет мелкий сборный лесок. Дальше ничего не видно, но Гришка знает, что за этим леском начинаются и тянутся на много километров поросшие камышом озера и болотца. Никому не известно, откуда взялись эти озера. Говорят, что в «старое время» была река, а потом повернула и ушла в другую сторону. Да это и совсем не важно для Гришки, главное, что озера есть и он ходит туда на охоту.
Хлопнув дребезжащей калиткой, Гришка побежал в поле на дальний холм. Роса еще не успела обсохнуть, и покрытые серебристой пылью листья лебеды мокрыми вениками хлещут Гришку по голым ногам.
Каждое утро он носится на свой холм, чтобы как следует покричать и покувыркаться на его плоской вершине.
Он взбегает на холм, осматривается и звонко кричит:
– Ого-го-го-го!
Набирает полную грудь тугого, плотного утреннего воздуха и кричит что есть силы, просто так: оттого, что ему всего десять лет, оттого, что на дворе лето и ему хорошо жить на земле. Накричавшись, Гришка кувырком скатывается к подножью холма. Густая мокрая трава холодными шершавыми языками лижет Гришкино тело, а он только визжит и хохочет от переполняющей его душу беспричинной радости существования.
Он любит траву и землю, мечтает о том, чтобы заиметь ружье и стать настоящим охотником. Гришка уверен, что он будет самым лучшим, самым метким и удачливым охотником.
Освеженный травяным купанием, подпрыгивая, Гришка помчался домой. У калитки он встретил Ваську-Костыля, прозванного так за длинный рост и худобу. Он похож на удода. У него острый птичий нос, который всегда блестит, и маленькие коричневатые глаза. Ваське уже пятнадцать лет. Отец в этом году купил ему одностволку, и он очень важничает, что у него ружье.
Гришку он берет с собой на охоту потому, что тот таскает на своих плечах все припасы и даже тяжелые Васькины сапоги. Если случается Ваське что-либо убить, Гришка лазает по камышам, ищет и приносит ему добычу. В награду за рабство Васька раз в неделю дает ему выстрелить из ружья. Добычей он никогда не делится, а если охота не получается, во всем обвиняет Гришку:
– Лопух, через тебя все! – говорит Васька и, длинно сплюнув, угрожающе добавляет любимую свою глупую клятву:
– Век свободы не видать! Не возьму тебя больше. – Гришка знает, что спорить с Васькой нельзя, потому что этим разозлишь его еще больше, и не оправдывается.
Когда Гришка берет в руки ружье, он боится дышать и чувствует себя самым счастливым человеком. Он не взводит курка, пока не увидит дичь, и часто убивает. Свою добычу отдает Ваське. Тот никогда не признает Гришкиных успехов и не радуется его удачам, а, наоборот, всегда злится и насмехается:
– Ха, так близко подпустила, так и дурак сможет, это тебе просто везет…
– Слышь, завтра не проспи, – ковыряясь соломинкой в своих длинных и кривых зубах, хозяйским тоном протянул Васька.
– Не бойся, я, как встрепанный, до зорьки вскочу, – ответил Гришка, стараясь заглянуть в маленькие Васькины глаза:
– А стрельнуть дашь?
– Дам, только ружье почисти.
– Тащи, – обрадовался Гришка. Он всегда с удовольствием чистил ружье. Ему очень нравилось держать его в руках, даже незаряженное.
Васька принес свой дробовик. До самого вечера Гришка с упоением чистил ружье и, только когда ствол засиял синеватым переливчатым ртутным блеском, отнес ружье хозяину.
Синие дымы предутреннего тумана поднимались в лощинах, как будто кто-то нарочно разложил костры из сырых дров. Васька в брезентовой куртке, перетянутой лентой патронташа, широко шагал на своих длинных ногах. Босой, с кожаной охотничьей сумкой на боку и тяжелыми Васькиными бахилами на плече, Гришка вприпрыжку бежал впереди, чтобы разогнать озноб после сна. До самого леса они шли по утоптанной и чуточку скользкой от утренней сырости дорожке. У леса Васька снял сандалии и надел поданные Гришкой сапоги: он боялся колючек и сырости. Через четверть часа они миновали лес и вышли к озерам. Выбрали место и стали ждать.
Заря протянулась широкой малиновой полосой, словно бросили длинный прут раскаленного железа. Камыши зашушукались от набежавшего ветерка, и черная вода озерка взбугрилась мелкими волнами.
Васька нетерпеливо взвел курок. В тот же миг стайка диких красавиц, коротко посвистывая крыльями, опустилась на маслянистую воду.
Васька вскинул ружье и выстрелил. Утки шумно поднялись и черными стрелами улетели в дальние камыши. Лишь лес отозвался рассыпчатым эхом.
– Эх, ты, мазуля! – хотел сказать Гришка, но ничего не сказал, потому что подумал: «Еще не даст стрельнуть».
– Вот гад! – плюнул Васька. – Ты видал, как я ее саданул… Век свободы не видать, ранитая улетела.
Гришка хорошо видел, что был недолет, что дробь подняла брызги чуть ли не за пять метров до уток, знал, что Васька врет, но кивнул, соглашаясь, думая все о том же: «А то еще не даст ружья».
Полдня пролазили они по болотам, забрались в самую глушь, но утки ни разу больше не подпустили их на выстрел.
– Вася, ты обещал, дай стрельну? – напомнил уставший и проголодавшийся Гришка.
– В чего тебе стрелять, нет ничего, – сердито обрезал разозленный неудачей Васька.