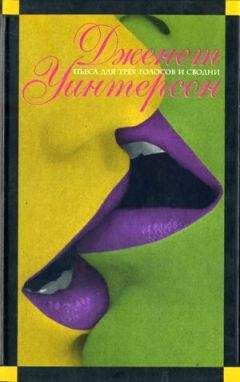– Я с трудом себя сдерживалась от того, чтобы броситься и оторвать ее от тебя. Она же могла тебя задушить, Такие слабые женщины цепки, как кошки.
В оставшиеся дни отдыха меня тянуло на Греческую площадь, как преступника тянет на место преступления. Мы пару раз приезжали сюда, даже попивали кофе в том злополучном кафе, но больше Света не появлялась. Я не был уверен, но мне казалось, что Царёв проходит лечение в каком-нибудь лечебном комплексе, а она где-то поблизости от него снимает квартиру или угол.
Хотя это было достаточно далеко, но взгляд Царёва с веранды продолжал сверлить меня. Все годы я почти физически ощущал, как этот человек, мой сокурсник, дышит мне в затылок. Он был малоразговорчив. За годы учебы мы едва перекинулись с ним несколькими словами. Долговязый, вялый, он проявлял завидную активность, когда дело касалось моих женщин, отбил Лену и тут же ее бросил, преследовал Свету, узнав о наших с ней похождениях, о которых она, открытая душа, рассказывала девицам-сорокам на всех углах, а те уже, за добрую душу, разнесли по всем остальным углам.
Только однажды я случайно поймал его обращенный на меня неожиданный взгляд, вроде бы обычный, равнодушный, но дрожь прошла по моему телу и волосы зашевелились на голове.
Это был нескрываемый взгляд врага, завистника, ненавистника. Как будто за вялостью и расслабленностью сверкнул нож, исподволь убивающий наповал.
После этого я избегал встречаться с ним не только взглядом, но и держался от него поодаль. И всегда он мелькал вдалеке, в окружении адъютантов, того же Витька, Даньки, и кого-то еще с незапоминающимся именем и лицом. Мне непонятны были их с ним отношения, но я никогда не спрашивал их об этом. Что-то его изводило. Не Прометей клевал ему печень, а сам он, вероятно, ел себя поедом.
Это могло показаться смешным, несерьезным, но я твердо решил не допустить его встречи и знакомства с Настей. Я был уверен, что тогда, с веранды кафе, он во все глаза глядел именно на нее. Не знаю, какого цвета у него глаза, но сглаз его был черным.
Мы с Настей продолжали чудесно проводить время, а ее понимание всего, что произошло, подступало к моему горлу тяжким комом одновременно вины и благодарности. Но горечь от всего того, что случилось на Греческой площади, не отступала от меня. И только поднявшись на борт того же «Адмирала Нахимова, идущего в Ялту, я начал успокаиваться.
Море, приближающиеся горы Крыма и ее присутствие рядом постепенно ослабили эту горечь до полного исчезновения в момент, когда мы ступили на столь любимую мной крымскую землю.
Цель этой поездки, по сути, определилась в Одессе, когда ночами я рассказывал ей свою жизнь на Демерджи-яйле, и она взяла с меня слово, что мы посетим купели Ай-Андри и, главное, Ай-Анастаси.
* * *
А в Ялте музыка играла. Мы сидели на крыше ресторана, подобной палубе корабля, музыканты рубили румбу, а я не отводил глаз от очертаний вершин Чатыр-Дага, Демерджи, Караби-яйлы, как будто вернулся в лучшие дни моей жизни.
На следующий день с раннего утра, сложив все необходимое в рюкзаки, мы на автобусе доехали до Перевала, мимо мест, где по преданию Кутузов потерял глаз, а чуть дальше стояла батарея, в которой служил Лев Толстой, мимо пустынного в этот час ресторана на яйле. И как всегда при возвращении на знакомые места, все здесь как бы сжалось, скукожилось, и мы быстро поднялись между горами – «Лысым Иваном» и «Кудрявой Марьей» – на Демерджи-яйлу. Орел лениво кружил над столь ранними путниками, и даже он казался меньше, чем раньше, походил на ястреба. Сел недалеко от нас и неуклюже заковылял за скалу. По каким-то запомнившимся очертаниям скал я нашел место, где стояла наша палатка. Место было грустно и вызвало в сердце мгновенный укол печали.
Настя шла легко, сказывалась профессиональная закалка. Я петлял по знакомым тропам, показывал места, где ночевал, где застал меня ливень, где я заблудился в облаках. Она помалкивала, но, казалось, впитывала каждое мое слово. Посидели у родника, с которого начиналась речушка Улу-Узень, поели, попили кристальной почти ледяной воды, легли на спины, и долго глядели в синее небо, мгновениями погружаясь в дремоту. И хотя она была не в меру самостоятельной, меня не покидал страх за ее жизнь, за каждый ее шаг, ведь это я потащил её сюда, и должен был быть на страже в любой миг, чтоб защитить ее от неожиданности, провала, зверя. А недалеко от нас все так же зиял невидимый отсюда кратер снежного колодца. На этот раз я и словом не обмолвился о нем, а она деликатно не спросила об этом, хотя я чувствовал, вопрос вертелся на кончике ее языка.
После полудня мы поднялись на высоту. Как ни странно, именно тут было абсолютно то же, что тогда, со Светой: было ясно видно, как очертания облаков, ниже нас конденсирующихся над яйлой, в точности повторяют её очертания. С высоты неожиданно открылось – во всё видимое пространство – море, и летящий ниже нас самолетик. Это было тогда для Светланы настолько неожиданно, что она беспомощно прижалась ко мне всем телом, и долго не могла прийти в себя, уткнувшись лицом мне в грудь. Я не мог отрешиться от ее облика, возникающего на любом повороте. Неужели она так и будет всё время стоять между нами? Во всяком случае, здесь она от меня не отставала.
Солнце было еще высоко, но уже готовилось к закату. И мы шли вниз, загребая ногами вороха сухой листвы. В августовском предзакатном воздухе тихо кружились опадающие с деревьев листья.
Спустились в долину. Вот и купели Ай-Андри и Ай-Анастаси. Они, казалось, совсем одичали в своей прекрасной отчужденности и открытости небу. Теперь чудное лицо Анастасии отражалось в купели ее имени. Как было уговорено заранее, мы сбросили одежды и погрузились в купель. Сидим в обнимку. Тела наши покрываются пупырышками от ледяной кристальной воды. Мы согреваем друг друга нашими телами. Мы высушиваем их губами от груди до пят. И чудится мне, что Ангел Господень, охраняющий рай, опять ко времени возникший в моих мыслях, засмотрелся на нас, опустив свой карающий меч.
Мы сгребаем груду листьев, жадно проглатываем нехитрый ужин, забираемся в один мой обширный спальный мешок. И оттого, что это выступает повторением, и рядом со мною любимое мной до потери пульса существо, сила чувства еще острее. И мы любим друг друга всю ночь. А в перерывах лежим, замерев, засыпаем, просыпаемся. И столько покоя над татарскими строеньицами и над всем этим чудным местом, куда годами не ступает нога живого. Только изредка прошелестит, опадая, лист. И всё стоит, замерев, в печальной и высокой, в Божественной ненужности никому, – только нам двоим, безымянным – мужчине и женщине.
Проснулся от ощущения, что снова в мешке один. Она стояла на верхней кромке долины, обнаженная, закинув руки за голову, на фоне начинающего рассветать неба, и на миг, со сна, показалось мне, что это Светлана, и я вздрогнул. Я ведь и словом не обмолвился о том, что у меня было со Светланой в этих местах.
Вероятно, в женских душах есть свои, быть может, небесные пути восприятия таких мест, и ведут они их по тем же линиям жизни. Это была чистейшая мистика, но это вершилось на глазах и потрясло меня сильнее всего, что происходило с нами в последние месяцы.
Я с трудом выпутался из мешка, испытывая непривычную слабость, и поднялся к ней. Теперь мы вдвоем, нагишом и в обнимку встречали рассвет на этих высотах.
В задымленном, видавшем виды чайничке, который я никогда и нигде не оставлял, храня в рюкзаке, вскипятил чай. Так и не одевшись, сидя в спальном мешке по пояс, мы пили, обжигаясь, чай, и это снова было повторением прошлого, без всякого упоминания с моей стороны.
– Я тебе очень благодарна, что ты меня привел сюда, – сказала она. – Ты ведь знаешь, что я бывала в более высоких горах, в Тянь-Шане, и они действительно казались поднебесными, цвета и краски Рериха ощущались на каждом шагу. Но то, что я почувствовала здесь, на этой невысокой яйле с обветренной скалой – головой Екатерины, о которой была наслышана от ребят, работавших здесь, не сравнимо ни с чем по силе воздействия на душу.
– Может, это потому, что я рядом.
– Не зазнавайся, дорогой мой. Помни, во всех мировых делах – зачатии, рождении, жизни, даже смерти, – мужчина существо второстепенное.
– И кто тебя всему этому научил?
– Я самочка – самоучка.
– Ну, ты даешь. Даже каламбурить умеешь.
– Еще не то будет.
– А такая была тихая, заботливая, даже боялась, что покончу собой.
– В тихом омуте черти водятся, прости за эту дурную поговорку.
И потом, я же не знала, что ты еврей, больше похож на немца, или даже – хохла.
– Не понял, причем тут еврей.
– Евреи очень редко накладывают на себя руки, это еще Ницше заметил.
– Ты и Ницше читала?
– И не только. У Авраама Исааковича уникальная библиотека, и он не продал ни одной книги во время блокады и даже не мыслил разжигать ими печку.
– Как же он выжил?