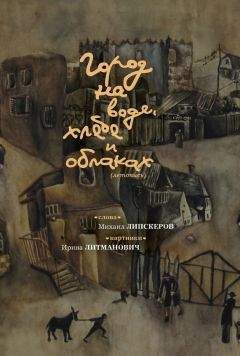Но от экзистенциальных исканий возвернемся назад и загоним себя в рамки повествования, чтобы оно обрело хоть какой-либо смысл. Итак, мадам Пеперштейн, выписанная из Житомира для создания семейного очага господина Пеперштейна, семейный очаг покинула вскорости после создания и убежала из Места на запад, а потом на юг. Она не знала, куда и зачем бежит. Просто тяга какая-то тянула ее сначала на запад, а потом на юг. И эта самая тяга притянула ее в земли, пахнущие детством ее предков, о которых ей ничего не было известно, и этот запах провел ее сквозь постоянные бегства из одной земли в другую, из одного времени в другое, из одной печали в другую, от одних слез к другим и в конце концов привел ее к рваным шатрам, в которых жили ее предки, измученные тяготами рабства, в котором они пребывали долгие годы. И она осталась с ними, потому что слезы, источаемые этими людьми, были ее слезами, мозоли на их руках были ее мозолями и пот их был ее потом. И пахла она им. Но однажды среди всех запахов тонкий нос ее услышал запах пота, от которого между ног ее стало мокро.
Вы спросите у меня, где запах пота, а где – мокро между ног. И тогда я отвечу вам, что вы обратились не по адресу. Не знаю, ничего не знаю. Обратитесь к матерям вашим, к женам вашим, к дочерям, ставшим женщинами, может, у них найдете ответ, но, скорее всего, нет, потому что, наверное, они и сами не знают ответа на этот вопрос, и ответ на него известен лишь, сами знаете кому. И этот запах заставляет женщин бросать все на свете и идти за ним, и пропади оно все пропадом.
Так и бывшая мадам Пеперштейн услышала этот запах и поняла, что именно он и заставил ее бросить все (я имею в виду г-на Пеперштейна в Месте) и уйти в другие земли и в другие времена.
Его звали Иуда. Он также услышал ее запах. А потом их запахи перемешались и стали одним великим, запахом. Запахом, который две плоти делает одной бысть. И было им счастье. Но как-то так случается, что счастье у моего народа не бывает долгим. Но это не значит, что оно становится менее счастьем. Мой народ знает, что такое краткость счастья, и ценит каждую его секунду, и возносит хвалу Господу за нее, и не слышал я от еврейских женщин стенаний: ах, зачем эта ночь так была хороша, не болела бы грудь, не стонала душа.
И Иуда и мадам Пеперштейн долгие секунды жили вместе, и счастье их пребывало с ними, пока однажды народ, в подчиненности у которого находился мой народ, не пришел к ним за очередными податями и «так погулять». То есть попить на шару вина, дочерей и жен народа моего понасиловать в меру сил, а мужчин увести с собой в рабство на строительство водопровода. И изнемогший народ готов был уже, как и положено, склонить головы под ярмо, а дочери и жены его покорно взошли на супружеские ложа, чтобы, как и положено, осквернить его вынужденной неверностью, а потом заполнить собой лупанарии и термы покорителей.
И тут случилась маленькая лажа. Мадам Пеперштейн, долго жившая в России (ныне Украина) и каким-то образом (пролетал как-то во времена молодости ее матери через штетл под Житомиром отряд то ли запорожских, то ли донских, то ли кубанских казаков) кровь имела достаточно буйную, что доказывает ее побег из сытого дома г-на Пеперштейна через земли и века на запах Иуды в его рваный шатер. И она никак не захотела осквернять ложе, на котором она провела несчетное количество счастливых секунд, и уж никак не желала заполнить своим телом лупанарии и термы. А потому, когда воин в шлеме с конским хвостом вошел в шатер, чтобы в закономерной последовательности войти в нее, и прижал ее к супружескому ложу, она языком нащупала его яремную жилу, и зубами прокусила ее насквозь. Мужское воина, уже готовое заполнить собой ее женское, опало от потери крови, а сам он захрипел и свалился с ложа. А голая мадам Пеперштейн откусила его бывшее и, держа его над головой, вышла из шатра, залитая чужой кровью, и пошла туда, где чужие воины связывали мужчин ее народа. В том числе и мужа ее Иуду. И увидев ее с чужим над головой, муж ее Иуда разорвал веревки, выхватил из ножен вязавшего его воина меч и пошел рубить врагов направо и налево. А если вы подскажете мне еще какую-нибудь сторону, то и там Иуда рубил своих врагов.
И отогнал врагов от шатров своего и моего народа.
И в конце концов вместе с братьями изгнал их из Ханаана. А по прошествии времени умер от старости на руках у мадам Пеперштейн. А она взяла с собой его запах и пошла туда, откуда пришла.
А так как времён прошло много, то позарастали стежки-дорожки, где проходили ножки мадам Пеперштейн из Места, и след ее подзастерся временем, вместо Места, откуда она ушла, ноги привели ее в Город, который не так давно основали семеро хеломских мудрецов. И в котором только-только начали образовываться некие подобия улочек и переулков. И одну из улиц мадам Пеперштейн назвала Маккавеевской – в честь мужа своего Иуды Маккавея, а три переулка нарекла Маккавеевскими – в честь братьев мужа своего Иуды.
А когда один из хеломских мудрецов, не будем тыкать в него пальцем, а просто скажем, что это был реб Метцль, сделал себе недовольное лицо, мадам Пеперштейн показала ему откушенный мужской конец. Реб Метцль не понял, что это означает: то ли его употребят этим концом, то ли ему отрежут его собственный. Но так как оба варианта его не устраивали, он снял свои возражения. И таким образом, в Городе появились улица и переулки имени Маккавеев, а в отсутствии в цивилизованном мире достаточного количества откушенных мужских достоинств в качестве угрозы стали показывать средний палец.
Чем жила мадам Пеперштейн, не могу сказать достоверно, но чем-то же жила, иначе как бы она могла столько времени оставаться живой. А когда в Городе появился Гутен Моргенович де Сааведра, то она поступила к нему в услужение и услужала, услужает и будет услужать. Сколько надо. А почему нет?
Вот такой вот краковяк.
Меж тем за моими рассказами утро среды незаметно перевалило в день опять же среды, а затем и в вечер.
Есть, я заметил, такое вот свойство у дня. Он вылупляется из утра, а потом тихо-тихо вползает в вечер. И я готов мазать на что угодно, что после вечера наступит ночь. А потом – утро. И что интересно – следующего дня! Каково?!. И все это время около дуэта Шломо-Осел в застывшем состоянии застыли юная Ванда Кобечинская, Ксения Ивановна, девица Ирка Бунжурна и мадам Пеперштейн. И все они пришли, дабы утолить голод Шломо, которому нужно было до решения (возможного) своей участи додержаться до пятницы, когда арабы в своем квартале, вволю отмолившись, решат наконец, как разорвать сложившиеся отношения промежду Шломо Грамотным и Ослом, скотиной такой, обезобразившие светлый образ площади Обрезания и внесшие сильное беспокойство в умы местного населения.
Шломо, оказавшись в окружении четырех дам, пришедших для его окормления, оказался в сильном моральном затруднении: пище которой из дам отдать предпочтение и таким образом внушить ей некоторые надежды? И он решительно не понимал, как выпутаться из этого сложного положения, пока не сообразил, что единственная из четырех дам, НЕ ПРЕТЕНДУЮЩАЯ, была мадам Пеперштейн. А сообразил он это потому, что мадам Пеперштейн, некоторое время стоящая со своими судками, мисочками, тарелочками в безразличном положении души, решилась уходить. Потому что Шломо Шломо, а кровать Гутен Моргеновичу де Сааведре стелить, кроме нее, некому. Других женщин, способных застелить ему постель, в доме не было. Да и неспособных тоже. Вообще никаких. И в этом таилась некая тайна. Какая-то таинственная тайна, которую я пока еще не придумал. Но есть у меня такое ощущение, такое шебуршение в мозжечке, что вот-вот чего-то набухнет в моей седой волюнтаристской голове, и выплеснется на вольную волю, и загуляет на свободе, и разрешатся чьи-то судьбы, и к кому-то вот-вот подберется то самое оно, и все, у кого-то вот-вот яркими красками, и прочее – вспышки там разные, просветление, радость несусветная (а сусветная есть?), и вот образуется то, что я придумаю. И будет это хорошо. Потому что очень хочется придумать что-то хорошее, а не тоску-печаль всяческую, и думаю, что это рано или поздно произойдет, потому что в этом есть свойство моего народа. Из тоски-печали производить что-то хорошее. А куда деться? Если ты сам не придумаешь что-то хорошее, то никто тебе этого хорошего не даст.
Ну да ладно. Этот буриданов Шломо застыл среди четырех баб с едой, и опять возникла финальная сцена из сатирической пьесы Николая Васильевича Гоголя «Ревизор», да простит великий Адонаи ему все, что ему будет угодно простить.
И тут на площади Обрезания появился Альгвазил, которого давно никто не видел, потому что эта паскудная девица Ирка Бунжурна его никак не нарисовала, мотивируя тем, что никогда не видела альгвазилов и даже не представляет, что это такое, и писал я его во первых строках моего письма исключительно по наитию, и вот именно это наитие и появилось на площади Обрезания, ко всеобщему изумлению. Появилось, грохоча латами и щелкая разболтавшимся забралом. Оно совершал свой многовековой бессмысленный обход Города, и, кто знает, может быть, из-за этой бессмысленности Город уже много веков продолжал свою многовековую жизнь. А потому что, милостивые господа, из многовековой бессмыслицы в конце концов выкаблучивается такая мысль, что всем мыслям мысля, типа солнышка, цветов, зверей и гадов, и даже мужика с бабой. Вон оно как бывает. И этот Альгвазил, судьбоносно проходя через площадь Обрезания, остановился у собравшегося на данный момент населения Города плюс неидентифицированного Осла, и все собравшееся на данный момент население Города плюс неидентифицированный Осел услышали глухое клокотание, доносящееся из-под лат Альгвазила в том месте, где под ними подразумевался живот. А щелканье забрала заглушило клацанье зубов (оказывается, они у Альгвазила были, кто бы мог подумать – за столько веков сохранить зубы, а чего им бы не сохраниться, если ими ничего не делать). И женщины поняли.