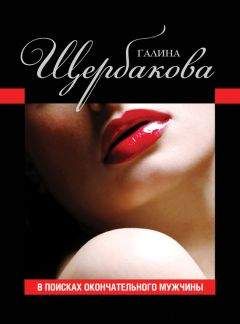– А раскладушка?
– Не знайшлы… Шукалы…
В квартире, где идет ремонт, деться было некуда. Можно, конечно, было уехать к Маньке, но, во-первых, ночь, во-вторых, как она оставит квартиру на эту сволочь?
Она сидела на матраце, поджав ноги. Дуло нестерпимо. Тогда она внесла кресло в спальню и села в него прямо с ногами. Сразу сомлела спина: кресла у нее были неудобные, неласковые… Надо давно было их сменить, но тот самый случай, когда жалко выкинуть по уважительной причине: уж больно хорош был на них густобутылочный велюр. В нем был весь смысл.
В дверь резко позвонили, а это не могло означать ничего хорошего. Ночной звонок – это всегда несчастье или в лучшем случае неприятность.
– Кто там? – закричала Ольга, выскакивая в прихожую.
– Вы меня заливаете! – услышала она в ответ и тут же возблагодарила судьбу, что изо всех бед она послала ей меньшую. Конечно, этот чертов сосед снизу, господин с маленькой и злобной собачкой, будет третировать ее месяца три, но это все просто цветочки по сравнению с тем, чем мгновенно пугает ночной звонок: Манька, зять, Кулибин… О Кулибине она, даже успокоившись, думала дольше всего: уезжал такой синеобразный.
В ванной Ольга мгновенно нашла ту самую воду на полу, которая достала соседа. Она так строго всегда следит за подлостью смесителя и родственных ему труб, а тут ремонт, мигрирующие малороссы… Потеряла женщина бдительность. Она взялась за тряпку, но у нее ее перехватил Сэмэн.
– Я всэ зроблю. Я вже бачив ваш кран. Завтра починю…
– Я так за этим смотрю, чтоб не иметь неприятностей… – оправдывалась Ольга.
Потом они в четыре руки конопатили щели на полу под дверью, потом двигали матрац, потом она споткнулась о его угол, возвращаясь из ванной, и он подхватил ее.
Дальше было ассорти из слов, не имеющих смысла, и слабость от полной сдачи. Не на милость победителя, нет, а от охватившей ее апатии. «Ты дурак, украинец, – думала она, засыпая. – Даже не за лябовь . Вот оказывается за что… За так…»
Все время хотелось ударить побольнее. Уязвить. Унизить. Очень продуктивная среда для совместного проживания в процессе ремонта.
– Скажи, – спросила она его. Узенький серпик луны подрагивал и зяб в рваных, ополоумевших от бега облаках. Откуда он, небесный, мог знать, что должен был стать тем самым серпом, что по яйцам? – Скажи, почему именно вашего брата, украинца, так много было в полицаях? Так много среди сверхсрочников? Что это у вас за призвание?
Он напрягся рядом, но молчал.
– Вы холопы. Прислужники. Вас немцы ставили у печей… Именно вас…
– Я б и зараз встав, колы б тэбэ туды повэлы… – тихо ответил Сэмэн.
– Исчерпывающе, – засмеялась Ольга.
– У москалив од вику така гра. Щитать катов у другых народив. Своих бы перепысалы. Бумагы не хватэ.
– Что значит – считать катов?
– Кат – це палач. Ничего ты, баба, нэ знаешь. Ты, баба, дура… Ты вэлыка дура, баба… Спы мовчкы…
– Ты со всеми хозяйками спишь, когда делаешь ремонт? – спросила она его как-то.
– Як повезэ, – засмеялся Сэмэн.
– Со мной, значит, повезло?
– Ты мэни нравишься, – серьезно ответил он. – Я бы на тоби женився.
– Мне благодарить? – засмеялась Ольга.
Почему-то стало приятно. Ненужный человек сказал ненужные слова, а на душе потеплело. А то хотел в печь! Но и она тоже… Хороша… Каждый народ наполовину черен . Ни больше… Ни меньше…
Она никогда не спрашивала его о семье. Теперь спросила. Он разведен. Остался хлопчик. У бывшей жены от родителей есть все: и дом в Полтаве, и машина, и садовый участок.
– Мужиков у ней как алмазив в каменных пещерах. Вона у менэ выдная, ноги выше головы. Чого разошлись? От цего…
Ольга почувствовала жаркую черноту чужой трагедии, ей захотелось сказать что-нибудь в утешение. Но вылезла банальность про время, это кругом несчастное понятие, на которое и без нее свалено столько всего.
– Извини, что сказала глупость. Но так трудно бывает удержаться.
– Це правда. Про врэмя, – сказал Сэмэн. – Врэмя можно подэлыты на всих людей, тоди получается маленькая цифирка, и тоди мы як бы ничего… А колы помножить… Время на людей – тоди так число, що пид ним хряснешь. Зараз такэ. Помножено на усих зразу.
«Это что-то очень специфически украинское, – подумала Ольга. – Что делить? Что множить?»
Но, видимо, Сэмэн и появился в ее жизни, чтоб портить слова и прикладывать к жизни глупую арифметику.
Потом приехал Кулибин. Ольга отругала его за кран и сквозняки, он удивился, что второй рабочий так и не был нанят, но спальня уже была сделана, в ней только оглушительно воняло краской, и Ольга подумала: «Сейчас он спросит, как я тут спала».
Но Кулибин ничего не спросил, а стал звонить Маньке, выспрашивал, какие у нее анализы, кричал, что надо повышать гемоглобин. Ольга была смущена и обескуражена такой степенью заботы. Она сама только спрашивала дочь: «Все нормально?» «Нормально», но чтоб узнавать цифры! Потом Кулибин сказал: всем из квартиры надо уйти, чтоб хорошо проветрилось, иначе «сдохнем, как тараканы». Стали собираться кто куда, а Кулибин возьми и скажи:
– Да! Совсем забыл. Такая история. Художник твой повесился.
– Какой художник? – не поняла Ольга.
– Тарасовский. А картины свои гениальные принес тебе. Сказал, что не знает твоего имени и отчества, чтоб составить завещание, поэтому наследство привез в детской коляске. Я посмотрел, по-моему, это халтура в чистом виде… Но прибежала его сестра, чтоб все забрать. Мы не отдали. Он же сам привез!
– Господи! Да отдайте! – закричала Ольга. – Я с ним всего ничего, раз поговорила и помогла отнести мольберт. Отдайте, и думать нечего.
– А если он гений? – спросил Кулибин.
– Тем более отдайте! – крикнула Ольга.
– Ну-ну, – сказал Кулибин. – Ну-ну… Твои дела.
– Какая свинья! Ты видишь, какая свинья? – Это она спрашивала меня, когда пришла в тот же день на время «проветривания».
«Свиньей» она называла Кулибина, сто раз передразнивая это его «ну-ну»…
Я же думала, что Кулибин уже обо всем этом забыл напрочь, а именно Ольга побежит искать «кого-нибудь умного», чтоб глазом посмотрел на картинки, что это ее «Отдайте!» абсолютно недозрелая эмоция, под ней сейчас барахтаются чувства сильные и страстные, и я противно так сказала, что да, конечно, надо отдать, кто она ему, но посоветовать родственникам оценить все, мало ли…
– Это уже их проблемы, – ответила Ольга. Я ей не поверила.
– Сама поеду и отдам.
Она позвонила домой, трубку взял украинец.
– Скажи мужу, что я поехала в Тарасовку.
Видимо, он ей что-то сказал. Она вытаращила на меня глаза.
– При чем тут ты?
– …
– В школе все рисовали…
– …
– Ну как хочешь… Встречаемся у расписания.
– Мой маляр – любитель искусств, – сказала она. – Хочет глянуть…
– Зачем же первому встречному? – спросила я.
– Знала бы ты…
Она рассказала, что жила с ним это время как старая жена со старым мужем… «Лет сорок вместе». И еще она мне сказала, что «любовь» теперь пишется «лябовь».
– Не знала? – сказала она. – Так знай.
«Дура, – подумала я, – какая она все-таки дура».
Но подумала и о том, что у слова есть энергетика разрушения. Тогда его лучше не употреблять, лучше совсем забыть.
Лябовь…
Лябо…
Ля…
Я тоже запомнила это слово навсегда. Потом даже решила, что ничего в нем страшного нет. В какой-нибудь русской губернии вполне могут так говорить. Вообразила себе деревню-брошенку. Так легко, радостно побежало по ней слово. Ах эта неприкосновенность, это целомудрие речи, уже порушенное, и иногда столь замечательно точно. Тут слышу: «Он такой цепур голдовый». Переспросила: «Это кто?» – «Ну этот, что пальцы веером!» – «А! Как вы сказали?» – «Цепур голдовый. Да понятно же, понятно!.. Золотая цепь на шее там или еще где». – «На дубе том…» – добавила я. – «Ну, это уже грубость… Люди могут обидеться».
Я уже ляблю лябовь… Из далекой, придуманной мною деревеньки мне беззубо улыбаются бабки. «Ишо не то говорим, милка, ишо не то…»
Слово заслонило факты жизни. А они были таковы, что Ольга ехала с Сэмэном в Тарасовку.
Он сказал ей, что душой млеет в подмосковном лесу. Что он в нем как в материнской утробе.
Тепло, нежно, влажно.
– Поэт ты наш, – засмеялась Ольга. – Я же про себя знаю другое. Я дитя бетона и асфальта. В лесу мне холодно, в степи мне жарко… Моря я боюсь… Горы меня подавляют… Мне нужна горячая вода с напором, теплый сортир, огонек газа в любую минуту. Телефон, телевизор…
Но Сэмэн ее не слушал, он смотрел в окно, а она только-только приготовилась сказать ему, что так же страстно, как лес, он любит грошики, но именно в лесу они как бы и без надобности. Ежики и елки – все бесплатные… Но смолчала. Как сказал этот щедрый на наследство Иван Дроздов? Мы не те, какие есть на самом деле. В нас во всех к чертовой матери перепутаны сущности…
«Ничего лично во мне не перепутано, – сказала себе Ольга. – Я проживаю свою собственную жизнь».