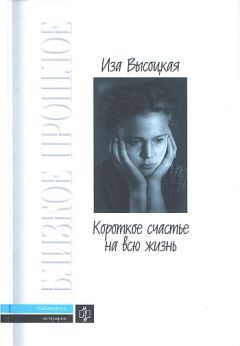– Нет, мы не кроманьонки, – не обиделась и тоже засмеялась Иза. – Мы – культурные коровы…
– В прошлом году я был таким же наивным.
– Теперь не наивный?
– Теперь – нет.
– Потому что дружишь с Песковской?
– Я одинаково дружу с ней и с вами. Ты ошибаешься, если думаешь, что Ниночка – плохой человек. Она не плохая, просто избалованная. Но ты, должно быть, заметила – Ниночка меняется.
– Можно научиться сдерживать капризы и вести себя прилично. А совесть, Андрей? А уважение к людям… пожилым? Не поздно?
– С совестью у Ниночки, не поверишь, все в порядке. Только она глубоко. Душа ведь не тело, медленно просыпается. Я помогаю Валентину Марковичу в цирке и видел, как муштруют диких кошек.
– Дрессируешь?
– Воспитываю.
– Поддается?
– Эгоизм не успел огрубеть.
– А сказал – дружишь со всеми одинаково.
– Мне интересно наблюдать, что получается… Да, забыл спросить: почему ты связываешь потерю моей наивности с Ниночкой? – Андрей понял, что прозвучало двусмысленно, и смешливо поднял брови.
– Потому что ты раньше нас побывал в ее доме.
– Понятно. Тебя задела Книга о вкусной и недоступной пище и прочие радости жизни по спецпривилегиям.
Андрей рассказал, что, кроме отдельных от народа столовых и магазинов, люди высшего партийного ранга пользуются услугами закрытых поликлиник, больниц, санаториев, ателье; он и сам толком не разбирался в сложностях так называемых спецпривилегий, но был уверен, что в материальных притязаниях партийная власть мало чем отличается от буржуазной. Разницу Андрей видел во лжи. По его мнению, в отличие от дореволюционных правителей, не делавших секрета из средств личного обогащения, нынешние изо всех сил старались скрыть свои шкурные интересы.
Иза возразила, вспомнив социалистический постулат «от каждого по способностям, каждому – по труду». Если от него отталкиваться, то все правильно, ведь руководить огромной страной очень сложно, и руководители, между прочим, народом избраны. Невольно соглашаясь в уме с Андреем, Иза перечила ему из тех же двойственных соображений, которые охватили ее давеча в мысленном споре с Ларисой.
– Думаешь, «слуги народа» сплошь гении и пашут по двадцать четыре часа в сутки? – усмехнулся Андрей. – Страна, конечно, огромная, флагманов как будто не так уж много, и кормушка не резиновая. Но когда в теле заводятся паразиты, они размножаются. Они быстро наглеют и не считают циничными свои тайные пиры на фоне общей бедности. Народ и не подозревает, что тело государства болеет и рушится. Партийный аппарат перестал воплощать идею. Он спекулирует коммунизмом, чтобы люди поднимали трудовую сознательность и сдавали соцобязательства досрочно. Волки сыты, овцы целы, страна растет и развивается, а заодно растут аппетиты волков вместе с ложью о светлом будущем. Ничем, никогда не могут быть оправданы обман и корысть… Кстати, Иза, и мы, культработники, как солдаты идеологического фронта, станем вдалбливать людям эту ложь и раздавать пустые обещания.
– Ты хочешь сказать, что коммунизма… не будет?
– При меркантильной власти он – утопия. – Андрей помолчал. – На воротах Бухенвальда был такой девиз: «Каждому свое». Нацисты взяли его из римского права. Девиз, если вдуматься, универсальный. Кесарю кесарево… Вот и здесь народу – одно, номенклатуре – другое.
– Ты повторяешь чьи-то чужие слова.
Андрей сделал рубящее движение рукой:
– Да, не я один считаю, что власть должна быть безгрешной. Понимаешь? Абсолютно! Всегда самая большая мечта у народа – справедливая власть. А такой, наверное, не бывает. Наверху только Бог.
– Говоришь, как верующий…
– Почему «как»? – улыбнулся Андрей. – Я – верующий.
– В Бога? – опешила Иза. – Шутишь!
– Нисколько. «Я верю в Бога моего не потому, что доказано мне бытие Его, что принужден к принятию Его, что гарантирован я залогами с небес, а потому, что люблю Его». Так писал русский философ Николай Бердяев. У Николая Александровича мне не все по душе, время было другое, и во многом он, очевидно, ошибался, но вот это убеждение я с ним полностью разделяю.
Андрей, кажется, поставил точку в разговоре. Они стояли близко друг к другу, в двух шагах.
…Всего два шага – пространство начала. Изиному сердцу вдруг стало тепло. Счастье не бывает холодным, оно заставляет горячую кровь течь по венам с напором весенних ручьев. В глазах Андрея вспыхивали искорки смеха.
Странное существо – человек: только что живо занимавший Изу политический спор внезапно потускнел и потерял смысл. С ней словно уже случалось подобное, очень важное, может, главное в жизни. Она вот так же смотрела Андрею в лицо, потом шагнула, и он шагнул… Это было как воспоминание о будущем, реальность перемешалась с фантазией. Но воображение решительнее действий, а попробуй сделать шаг по-настоящему!
Наведенные тонкими штрихами ветви деревьев кружились по краю колодезно-чистой глубины. Вверху выплеталось кольцо небесного гнезда. Иза почти чувствовала на своих губах твердые губы Андрея. Знала, что они твердые и одновременно упруго-мягкие, с запахом березового ветра. Знание пришло из наития, из той области чувств, где вселенная живет другой жизнью – невесомой, крепкой и нежной, как касания тугого крыла. Сейчас… Сейчас запрокинутое лицо опахнет теплым дыханием, глаза зажмурятся, и… Андрей отшатнулся, давя в себе возглас то ли досады, то ли испуга. На тропу легла посторонняя тень.
Еще не видя парторга, Иза поняла, что это он, и опустила голову. Борис Владимирович покачивался с носка на каблук. Потерянный Изин взгляд медленно поднялся от начищенных ботинок по обоюдоострым стрелкам брючин, по глухой складке двубортного пальто с шеренгами больших пуговиц к синему треугольнику кашне в черных выпуклых мушках. Лицо Блохина под надвинутой на лоб представительской шляпой темно-серого фетра было лицом статуи. Командор…
– О чем беседуем, молодые люди? – спросил он без приветствия.
Голос, обычно сухой и ровный, неожиданно дрогнул, будто перетерся от скупости интонаций, и вынудил Бориса Владимировича влажно кашлянуть.
– Так, ни о чем, – сказал Андрей.
Иза запоздало поздоровалась.
Похоже, парторг шел за ними след в след, точно волк за добычей, и, наконец, настиг. Или задумался и не заметил? Но он и тогда мог бы развернуться назад по тропе либо пройти мимо, как сделал бы любой другой человек. Зачем остановился? Ведь ничего не стряслось ни с ним, ни с ними. Было предчувствие поцелуя – вот и все. А если бы студенты и поцеловались, есть ли до этого дело прохожему, пусть даже парторгу?
Холодные глаза были полны презрения, словно уличили Изу в чем-то постыдном. Минуту она ощущала безотчетный ужас, как грешная Дона Анна, к которой неумолимым возмездием притопал каменный гость. По истечении невыносимой минуты Борис Владимирович перестал покачиваться.
– Извините, что помешал вашему общению, – произнес он прежним голосом, не расцвеченным никакими эмоциями. – Всего доброго.
У серой фигуры были неестественно широкие плечи. Портные индпошива не пожалели ваты для подплечников пальто. Спина Бориса Владимировича напоминала дорожный знак «Т». Ноги Изы отказались идти в сторону тупика.
– Мне в магазин. – Она свернула на поперечную тропу.
Борьба комсомольской гордости с обывательской завистью вызвала в Ларисе эффект теплого шампанского, и закисшие продукты брожения пробили брешь в ее вынужденной скрытности.
За хранение государственных тайн наград не дают. Подразумевается, что сознательный человек должен хранить их безвозмездно, из соображений моральной устойчивости и принципов советского воспитания. Болтать, конечно – врагу помогать, но ведь человек – не бутылка для закупорки джиннов. Запечатывание в голове неусидчивых тайн не обходится без ущерба для характера. Ларисе стало жаль свой характер за ничем не поощряемое благородство. Растрепанная и несчастная, сидела она в углу кровати, обняв колени. Угрюмо смотрела на карту СССР, в одну точку с предположительным кружочком безымянного города в районе Сибири и жаждала выплеснуть часть долго сдерживаемых эмоций на первого, кто подвернется. Подвернувшийся послушал бы, посочувствовал или просто скроил соболезнующую мину. Все равно, лишь бы послушал. И пошел бы дальше, стряхнув с себя по пути чужое горе. А рассказчица, облегчив душу, расслабила бы настроение, шатко балансирующее над мерклой топью. Не вечно же быть на взводе…
Лариса раздумывала, не зазвать ли кого-нибудь из соседок попить чаю, но начинать откровения с порога неприлично, а ей так и хотелось: бух – и рассказ. С порога. Невмоготу было играть прелюдию к исповедальному акту. Поэтому Иза пришла как раз вовремя. Лариса обрадовалась, схватила ее за руку:
– Годи… Ось, слухай, бо сил нема терпеть…
Иза присела в изголовье кровати, и перебродивший джинн полез из Ларисы вместе со слезами, соплями и всхлипами. Это не она, это он, отрывистый и торопливый, зачастил тарабарскую скороговорку на русско-украинском языке, пропуская слоги и шипя в тех местах, где пузырилась застарелая боль.