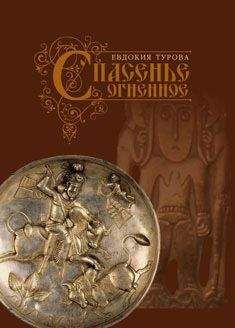– Чё это?
– Блядство.
– Мать Пресвятая Богородица! Да она хороша девушка-то была!
– Там не смотрят, хороша нет. Короче, когда я из района вернулся, уже фельдшерица бежит навстречу: надо, мол, агрономшу в районную больницу везти. У себя в лаболатории какой-то протравы наглоталася. Вот чё и было.
– А Витька?
– Ничё про Витьку не знаю. Вон, ёптать, твой отворот, слазь давай!
Никола, председатель, был не местный, не поселковский. У поселковского через бабу все узнают. Так, по-соседски что помочь надо или еще что-нибудь, мало ли. А Никола приедет – уедет, только его и видели. Когда это с Надеждой произошло, совсем Николы не было здесь. А потом и на него по осени блажь стала находить, вот ведь что это такое на свете делается. Приедет он в поселок на лошади, привяжет ее возле чайной и целый день сидит там, совсем не разговаривает.
– Опеть седни их видел. На том же поле. Ну, етех, Михаила Александровича и Надежду. Сидят на краю поля, на дальнем, у лога. Картошка перед ими выкопана в аккурат на сотку. В мешки сложенная. Оне будто на ведрах сидят, толкуют между собой. Подошел – никого нету, и картошка целая.
– Их, сказывают, Вотяцка гора взяла. Сперва она отравилася, а в аккурат ей в годину Михаила-та Александровича опеть чё-то за картошку давай таскать, дак и он сердцем помер. Обое вместе и блазнят людям. Чё ты туда ползашь? И тебя гора возьмет, гляди…
– Не-ет, я их подкараулю… Я имя все объясню. Вот у меня в тетрадке все как есть расписано. Планчик начерчен. Вся посевная площадь, котора под картошку, – вот она. Все сосчитано. Зачем и почему, все расскажу, пусть боле не ходят. И ей, Наде-то, скажу все, как было. Главно, чтоб ей сказать.
– Как осень, так он давай дурить с етой картошкой. Надьке скажет… Ее уж три года нету, Надьки-то. Ум-от у тебя вовсе съезжат, Коля. Исть[10] будешь?
– Нет покуда. Чаю дай.
– Чё-то ты вовсе стал, не ешь ничё… Давай-ко съезди в Соснову, сходи в церкву, пусть отчитают тамока над тобой, чтобы блажь отошла.
– Не, в церкву не надо. Так поживу.
– Куда пошел-то?
Куда ноги несут, туда и шел Никола, к поляне под Вотяцкой горой, и разговаривал с Надеждой:
– Надя? Надя, ты это… Вот тетрадка, посмотри, я те все покажу про ту картошку. Ты не уходи! Я ж разе думал, Надя! Я ж тоже, как лучше, думал. Мол, куда мне ете плановые десять гектаров картошки? Кто у меня на ей робить-то будет? Это ж надо закопать, да окучить, да выкопать, это ж тебе не репа. А хранить где, если у меня бурт на две тонны? А скармливать кому? Ее ж варить надо, картовь, а на ферме кормозапарки нет. Покажу, мол, урожайность поменьше. Никто больно-то и не знат, сколь ей положено урожайность иметь, картови-то. Засажу поляну возле Вотяцкой горы, отчитаюся за все плановые десять гектаров. А чё эту поляну не распахать было? Место ровное. Земля хорошая, жирная. Поселок близко, отдам картоху в железнодорожную столовую, рабочим. Ну, кому плохо?! Все председатели колхозов так пишут урожайность, ну, пониже. Все одно картовь девать некуда, так сгниват. Чё ты тамока насчитала, зачем? Шум подняли, райком влез. Их за план посевных площадей знашь как прополаскивают! А ты еще учти, что и горючее колхозу выделяют по площади. Тут, Надя, только копни… До области дойдет – начальству и партбилеты велят на стол положить, не шутки. А всему району горючее срежут, а плановую урожайность подымут, и все. Надо ж как-то тебя унять было… Подвернулась ты тутока, вот чё. Ты прости меня, Надя, а? Простила?
Но тень Надежды, видимая ему одному, проходила мимо и все так же считала и считала проклятущую урожайность.
– …Так, сто пятьдесят шагов на семьдесят сантиметров, получаем… Площадь получаем перемножением. Округлим немножко… Получили с чем-то два га. Сколько собрала бригада Шмырина? Мешков пятьдесят. По сколько это у нас в мешке? Бригада Васи Гилева… Прибавляем. Делим. Урожайность двести центнеров с гектара… Двести. Двести! Двести!!! Все равно двести… Все я сосчитала правильно. За что меня? Все равно двести… Это же правда…
– Есть, Надя, правда, а есть жизнь. Будешь норовить только по правде – подохнёшь. Ты думашь, это вчера началося – урожай-то не сказывать? Я у деда спрашивал, дак и ране, говорит, мужики прибеднялися, чтобы подати снизить. У нас ведь хоть надвое разорвись, скажут: а чё не начетвёро?! Нет, ты так не уходи, ты прости, Надя… Я же старался, ты пойми!
Вечером помнившая дорогу кобыла увозила Николу, все так же горячо толковавшего неведомо кому про гектары и центнеры. Он и в чайной пытался показывать свои тетрадки и объяснять, что к чему. Поселковские не в состоянии были вникнуть в смысл его речей. Все садили картошку по огородам, урожай считали ведрами, и сколько это в центнерах с гектара, не знал никто. Центнер с гектаром тоже путали. Да и не только в урожае тут было дело. Урожай тут, может, и ни при чем был.
Все же главный виноватый тут, наверно, Витька. Иначе чего бы ему являться каждую осень?
Первым приехавшего Витьку всегда видела почтальонка, целый день шагавшая по поселку и разносившая эту новость.
– «Заря коммунизьма», районка, пять номеров. Два «Огонька», «Пионерской правды» пять штук, «Крестьянки» две, «Звезды» девять номеров. Письма сосчитала. Все. Опеть сумка полнехонька. Слышь, Тась, я Витьку Шорохова сёдня видела.
– Уж уехал бы он куда-нибудь…
– Робить ведь надо – уедешь дак. Тут он кто был – директорский зять. Ни чё ни к чему, а все же Витьку в учителя поставили. Спортили.
– Ритка это все, ну, Маргарита Федоровна. Это она тут все накрутила. В городе живет теперя, по родне пристроили. Ну, эта не пропадет. Лучше нас всех жить-то будет.
– А чё с картошкой-то прицепилися? Чё-то прицепилися к девке с картошкой, давай везде мотать: и в район, и везде. Не то насчитала, чё-то сказала… Добра-то! Картошка эта кажный год гниет в дальнем бурте.
– Ой, ладно, ты еще будешь про картошку! Нас еще помотают. Все, я на склад пошла.
Но и Витькина вина была как-то не видна. Если бы Надежда аборт у той же Маремьяны сделала – все бы знали. На Витькину гладкую рожу смотреть было почему-то никому неохота. Но все же где это он мог успеть сделать свое дело? У Маргариты за ним был полный надзор. Саму Маргариту не спросишь, подсыпались при случае к бывшей ее подружке, царственной продавщице в сельпо:
– Завесь, Тая, селедку да дай две буханки черного и поллитру. Картошку копам. К тебе Шорохов-то не заходил?
– А чё ему ко мне заходить?
– Ну, на свадьбе ты у их, говорят, была, дружилася с имя ране-то. Богатая свадьба-то была?
– Каки люди, така и свадьба. Мое какое дело.
– Платье тако богатое у Ритки-то было! Я их с Витькой видела, когда оне по поселку ходили, на свадьбу приглашали. По начальству, конечно, да по продавцам. Говорят, из района на свадьбе были. Из райпо, из райисполкома, заврайоно была.
– Кака свадьба, таки и гости.
– Витьке тоже костюм хороший справили, серый шевиётовый. Куда тебе стал Витька, настоящий артист. И ростом высокий. Ритка-то ему по пояс.
– Пятьдесят два пятнадцать. Что еще брать будешь?
– Сахару кускового полкило. Ритка-то не сказать что красивая, ну, правда, завивалася в городе, туфли на каблуках. Все же директорская дочь. Он сразу тоже учитель стал. Виталий Сергеевич. Во!
– Семьдесят три пятьдесят. Все?
– Ну… Соли еще дай два кило. Все одно капусту солить. А чё, правда-нет, что агрономша с им трепалася? Да и попалася, как вошь во щепоть. Ритка-то у тебя в магазине на ее кинулася.
– Ничего я про это не знаю. Мне из-за прилавка ничего не видать. Людно было. Дачный в аккурат пришел. Слышу только, шум поднялся, крик. Розняли их. Восемьдесят два двадцать.
– А Ритке-то кто чё сказал? Правда, что из районо позвонили? Лизавета, на сельсоветском узле телефонистка, говорит…
– Рассчитывайся давай. Мне эти разговоры во где уже. Кажду осень все перебирают. И Лизка зря болтат. За язык-от знашь как притянуть могут!
– Сколь с меня?
– Вечно десять раз надо сказать. Восемьдесят два двадцать.
Вот такая вышла нелепость. Никто смерти-то не хотел. Урожайность тогда перевирали все, кто мог. При худом раскладе на заседании райкома партии могли девушке и политическую статью припаять: раскрыла-де перед капиталистическими врагами наши подлинные ресурсы. Мы, многомудрые, скрываем, чтобы враг не догадался, сколько картошки наросло, а ты раскрыла, враг-то на ус намотал, готовясь пойти на нас войной. И за много меньший проступок тогда можно было загреметь далеко и навсегда. Никола вовремя свое слово сказал. Райкомовские, от душевной щедрости, всего-то и приписали обвиняемой, что аморалку. Ритке из района звякнули, она кинулась на хорошую девушку Надю – и девушки нет. А кто виноват? Да, собственно говоря, никто.
Ритку не обвиняли: мужиков после войны днем с огнем порой было не найти, а она, прямо скажем, против Надьки не красавица. Не убивать лезла, а так, поскандалить. Нет, виноватая не она.