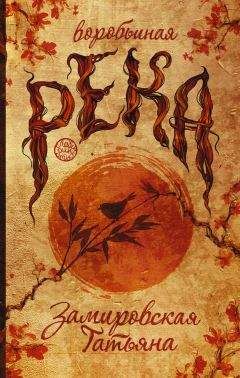Оказалось, что молодой человек зашел, чтобы отдать кое-какие вещи жениха. Они были там вместе, очень сдружились и договорились, что если что-то в таком роде, например, смерть – второй бы отдал вещи кому положено, зашел, поговорил, как-то успокоил, если понадобится. Вещей было немного, пакетик с футболками и кое-каким бельем, крестик на алюминиевой цепочке, исчерканные форзацы и обложки от блокнотов – все это он, вздохнув, выложил на стол вместе с шелестящей горой неотправленных писем; на этой войне, судя по всему, не работала почта.
– Только это, никаких справок? – спросила Лила. – Дата, причина смерти, ну, такое?
– Причина смерти не установлена, – скучным казенным голосом сообщил молодой человек.
Лила поблагодарила его, взяла вещи, письма и отнесла в комнату. Когда она вышла, над кухонным столиком уже нависала, как грозовая туча, свинцовая, тугая, расплывающаяся тень хозяйки квартиры.
Лила набрала в грудь воздуха – ровно столько, сколько должно было хватить на всю ее последующую жизнь.
– А вот и мой жених, – радостно выдохнула она. – Вернулся с войны! Живой!
И обняла молодого человека за шею, почти повиснув на нем.
Жених закряхтел и сказал: полегче-полегче, знаешь сколько всего эта шея вытерпела. Знаю, захохотала Лила, знаю, но ты еще не знаешь, сколько всего ей нужно вытерпеть теперь! Ее лицо сияло, как будто где-то далеко-далеко в саду играет музыка, и никто, кроме нее, этой музыки не слышит.
Хозяйка смущенно зацокала языком. Спросила, как там, тяжело ли. Жених ответил, что в принципе всюду тяжело, но там ему даже теперь тяжело, в данный момент – особенно это чувствуется шеей и еще коленными чашечками, тянет их, тянет куда-то наружу, выворачивает под кожей. Говорил медленно, нехотя, будто челюсть заело.
– Только пришел! – бойко объяснила эту медлительность Лила. – Устал страшно, не видите? Давай-давай в душ! Быстро в душ! Потом пообщаетесь еще!
Жених смущенно побрел в душ, по дороге его нагнала Лила и, буквально подпрыгивая от наэлектризованности и ликования, вручила стопку белоснежных полотенец и пару футболок из пакета, который он сам и принес – пару, чтобы было из чего выбирать.
Хозяйка забрала деньги, молча посидела пару минут за столом, даже порывалась поставить чайник сама, но потом немного застенчиво сообщила, что, видимо, не будет дожидаться, он ведь и правда устал, после войны-то, но теперь отдохнет.
– Конечно, отдохнет! – обрадованно подхватила Лила. – Война-то закончилась уже, все! Читали новости? Теперь всю жизнь отдыхать!
Хозяйка улыбнулась какой-то надломленной улыбкой, было видно, что она чувствует себя совсем подавленно.
– Вы простите, что я без предупреждения зашла, – сказала она. – Я в следующий раз обязательно позвоню.
– Да не надо! – заулыбалась Лила. – Приходите когда хотите! Тут же теперь все дома, уже некому приходить, кроме вас!
Хозяйка возилась с обувью долго-долго, у нее даже немного дрожали руки.
Когда за ней закрылась дверь, Лила услышала деловитый, домашний шум в ванной комнате и заглянула туда, в ванильные дали и туманные облака пара и спокойствия.
– Э, давай скорей! – прокричала она. – Мне тоже в душ надо!
Потом подумала, скинула одежду и тоже пошла в душ.
Началась мирная жизнь.
Дверь была открыта – и была открыта всегда и давно, плотно увязнув всей своей ржавью и зеленью в мокрой и холодной слезливой земле. Поэтому ничего не скрипнуло, ничто не дрогнуло, когда мы вошли вовнутрь. Возможно, скрипнул и содрогнулся весь мир, но мы ничего не почувствовали.
Я сделала несколько шагов вверх по шаткой деревянной лестнице, достала телефон, чтобы сфотографировать нарисованные на едко-белых стенах гнилые и прекрасные плесневые цветы, которые выглядели так, будто бы их специально нарисовали, но при этом и правда были специально нарисованными – это я выяснила, подойдя поближе и подсветив цветы фонариком.
Антон стоял внизу и рассеянно отвечал на какие-то смс-сообщения.
– Поднимись сюда! – закричала я. – Посмотри, какая тут отличная гниль! Еще там, кажется, на самом верху летучие мыши – давай их тоже фотографировать!
В нашей фотошколе было выездное занятие: все едут в старый Парк Чижевских и снимают там сюрпризы ранней весны.
Я с юных лет отношусь к Парку Чижевских как к собственному фамильному склепу – древние мшистые развалины, полуразрушенные усадьбы и костелы, заброшенные медвяные сады с тугими подгнивающими яблоками, поздней осенью рассыпанными по хрустящей морозистой траве и погружающими садовые пространства в приторную сахарную вату глубокого, по пояс, гортанного тумана. Поэтому решила вернуться в фотошколу на пару дней, привет, Антон, давно не виделись, как там твоя Лида?
– Лида – гнида, – ответил Антон нарочито веселым голосом. – Пошли в парк, три года там не был.
Гнида так гнида. Этот старый дом, на котором всегда, сколько я помню, висели медные, потрескавшиеся цифры 1874, на самом деле был построен еще раньше – когда-то это были конюшни, потом – просто сараи, потом – жилой дом с коммунальными этажами в вечность длиной, последние годы там жили всякие сумасшедшие городские художники, бродячие философы и уличные музыканты, маргиналы и мертвые поэты, вот, смотри, тут стены выкрашены в сиреневый и оклеены старыми и новыми календарями и виниловыми пластинками. Это дедушка Богдан строил склепик Майклу Джексону, еще когда Майкл Джексон был жив – вот фигурка из фольги, вот виниловая свеча, как будто вчера горела на хрустальном ветру октября.
– Октября, – говорит Антон. – Тут за окном октябрь, офигеть, посмотри.
Я прекращаю фотографировать нарисованную гуашью карту странного, совсем не нашего мира, приклеенную серебристым скотчем к изразцовой печи, подхожу к окну, которое пытается разместить в своем сознании Антон. На окне в рядок, как солдаты, выстроены глиняные рыбы в сапогах-ботфортах, за окном яростно желтеет клен.
– Так, это уже было, – говорю я. – Вот в этом же чертовом месте уже было такое.
– Нет, ты посмотри, – жалобно просит Антон, как будто не расслышал. – С этой стороны дома все деревья желтые, как в октябре.
– Завод «Желтый октябрь», – киваю я, фотографируя заоконные холмы, полные увядающей осенней акварели. – Давай, заводик, работай, мы сдадим зачет экстерном.
– Вообще странный какой-то эффект, такое бывает? – продолжает бормотать Антон. – У нас как-то каштаны на проспекте зацвели в конце сентября, но потом оказалось, что это просто такой паразит, минирующая моль – заминировала каштаны, которые решили, что вдруг весна и пора цвести. Минирование юностью, обман будущим, ну как так можно, как насекомое может быть такой сволочью.
Мы смотрим на золотую заоконную осень, и я вижу, что у Антона дрожит объектив.
– Знаешь, у меня в этом парке уже когда-то было похожее, так что это нормально, – пытаюсь успокоить его я. – Послушай. Лет семь назад мы тут гуляли с Винсом, помнишь его? Оказалось, что он никогда в жизни тут не был – а это ведь самое мистическое место в городе. Я ему говорю – мол, пошли вечером к Чижевским, там всегда бал ведьм, Белая Панночка рыдает у плотины по своему похороненному заживо жениху, труп гражданки Телицкой, замученной чижевским маньяком, угрюмо красит собственную оградку – это причем не могила, а кенотаф, ну, ты знаешь, а Винс не знал, в общем, я решила его как-то развлечь, у него уже тогда была ужасная депрессия, из-за которой все потом, наверное, и случилось – и вот мы приходим сюда, гуляем, я показываю ему оградку, выкрашенную Телицкой, показываю этот жуткий осенний яблочный туман, похожий на саван, расстеленный над всей долиной, мы доходим до развалин костела, я рассказываю ему что-то жуткое про призрак Донны Жанны – помнишь же, тут ходит иногда Донна Жанна, речная фея? – и вот я вижу, понимаешь ли, какое-то сраное кладбище, свежее, как штрудель, просто дымится буквально, вот-вот из печи, будто пирожок. Я смотрю на кресты – а они прямо со слезой, живое такое дерево. Смотрю на могилы – а там земля дышит, парная такая. И Винс говорит – это ты тоже меня сейчас пугать будешь, да? Да, говорю я, дружок, проблема в том, что тут никакого такого кладбища не было никогда. Винс мне сразу – неправдоподобно, в общем, пугаешь. А я хожу медленно-медленно мимо крестов, трогаю их задумчиво и говорю – надо же, какие свежие, странно-то как. И до самой кромки этого тугого тумана – кресты. Мы начали с Винсом таблички читать – а там годы, ну, 1907, 1912, такое. И надписи свежие, мы даже в краске запачкались. И я, значит, стираю эту краску с рук и говорю – ну что ж, Винс, так бывает. Кладбище, значит, у нас тут у костела. Больше ста лет ему, кладбищу. На прошлой неделе не было – а сейчас есть. Ну, так бывает. Видишь же – стоит, свежее все. Раньше не было, а теперь есть. Обычное дело. Что тут поделать, если глаза это видят, руки это трогают – кладбище как кладбище. Так вышло. Чему тут удивляться. В жизни всякое бывает. Короче, ничего страшного. Я, натурально, себя как-то убедила, что в жизни может быть всякое, и что нет ничего странного в том, что мы оказались на свежем кладбище, которому сто лет – мы же там оказались и не умерли, в конце концов. Короче, в это мгновение я поверила в невероятное. Фактически, я стала другим человеком. Мне кажется вообще сейчас, что это был самый важный момент в моей жизни – момент, в который, сталкиваясь с неведомым, ты делаешь некое немыслимое душевное движение, фактически перестраивая весь свой разум – чтобы это принять и поверить в это безоговорочно, и не сойти с ума, конечно. И вот представь – я смотрю на то, чего не может быть, и говорю: ну, кладбище. Обычное дело. Пойдем домой, друг, домой пойдем.