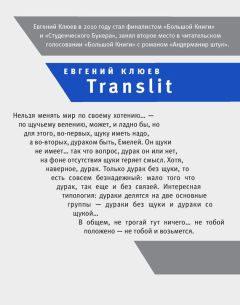Аста вообще всем и всему вокруг странные какие-то имена дает: например, соседка, милая фрекен Викандер, называется у нее «фиолетовый джем», почтальон Ольссон – «рудокоп», а пес их, Пикколо, – «почтальон Ольссон»… и, главное, Пикколо отзывается!
– Почему ты всех переименовываешь, Аста?
– Потому что у меня слов полон рот.
И при этом Ансельм считает, что с ребенком все в порядке! Но ничьи дети, Нина поспрашивала вокруг, ничем подобным не занимаются.
– Мама, а давай теперь вместо «нет» всегда говорить «крокодил»?
Так, значит, и будем теперь жить – пустыми словами обмениваясь. Только словами ведь сыт не будешь, и в слова не оденешься, хоть Аста и говорит: «На мне надето слово “шляпа” – разве ты не видишь?» Ансельм отвечает: «Конечно, вижу, как же не видеть», – а Нина сопротивляется: «Нет, не вижу, слово нельзя увидеть!» Тогда Аста приносит ей какую-нибудь книжку, открывает и показывает слово – ткнув пальчиком наугад: «Видишь? Зачем же говоришь: нельзя?»
– Я никогда не встречал более не вербального человека, чем ты, – совсем недавно сказал Ансельм раздраженным голосом, причем просто так сказал, не в ответ на что-нибудь. Подумал – и исправился: – То есть, менее вербального, чем ты, человека… никогда не встречал.
Нина не очень поняла, какое из ее качеств он конкретно имел в виду, но что сказанное не комплимент – прекрасно поняла… впрочем, сделав вид, будто не поняла и этого. Ей теперь часто приходилось делать вид – чтобы хоть самой не увеличивать расстояния между ними, которое и без нее росло – не быстро, но ощутимо. Нина и Ансельм уже с трудом различали очертания друг друга, приходилось сильно вглядываться… впрочем, иногда не помогало и это: вглядываешься, вглядываешься, а на той стороне – никого. Кажется, их и вообще связывала теперь только Аста, быстрыми своими шажками в мгновение ока покрывая мили между ними и принося родителям сообщения друг от друга. Хотя время от времени и Аста могла застрять в пути: тогда Нине казалось, что Ансельм неделями не отвечает на ее вопрос – или, наоборот, Ансельму казалось, что Нина слишком долго не задает вопросов. Между тем как Аста все это время изнемогала в пути, борясь с новыми и новыми препятствиями. Пару раз ей даже пришлось вернуться назад: она уставала пробиваться на противоположную сторону и возвращалась – всегда к отцу, поскольку, давно уже пора сказать честно, папина дочка была.
Нина, конечно, знала об этом: она еще и поэтому не шла ни на какой серьезный разговор с Ансельмом. Разговор не обещал закончиться в ее пользу, ибо Аста – дойди дело до дележа – вне всякого сомнения, захотела бы остаться с отцом. Да и Ансельм не мог думать иначе: уж кто-кто, а он-то знал Асту наизусть.
Спроси Нина себя, кто во всем этом виноват… – ну хорошо, пусть не во всем, пусть во многом – она бы ответила: имярек. Он и сейчас, когда формально между Ниной и Ансельмом полный порядок, ведет себя так, будто никакой Нины не существует. Сегодня в зоопарке, оставшись вдруг с Ансельмом один на один, она даже не выдержала: «Мне вот что интересно: почему он меня за человека не считает…» Ансельм посмотрел на нее с состраданием (которое он вполне и вполне мог бы сэкономить для себя самого!) и вздохнул: ты неисправима.
– Тут ведь дело не в том, за кого он тебя считает, Нина! – Ансельм опять начинал злиться, и Нина уже сожалела, что не сдержалась. – Он просто не видит тебя, правда! Говорю ведь, он живет в мире слов, а там, в мире слов, тебя нет, ты человек действия, ты слишком отсюда, понимаешь?
«Отсюда»! Она ненавидела эти пространственные ограничители, вечно отбрасывавшие ее куда-то в сторону… хм, в сторону от основной магистрали развития человечества. А вот нет никакого «отсюда» и «оттуда» – скушали? Все эти ограничители вы сами придумали, чтобы ее из своего круга исключить! Ну, не может он не видеть Нину: отвечает же на ее вопросы, в глаза смотрит, обнимается при встрече и прощании…
– И – что, Нина? Ты тоже каждую минуту сдвигаешь с места то один, то другой предмет… вот сейчас ты ветку плечом задела, поставила об этом галочку в своем сознании или не поставила – но нет для тебя больше ветки, ты больше не вспомнишь о ней никогда. Так и ты для него… просто ветка, некое «тело», посылающее сигнал из пространства и тут же снова навсегда исчезающее в нем. Он касается тебя – и забывает о твоем существовании.
– А ты? А Аста? О вашем существовании он тоже забывает?
Ансельм виновато покачал головой.
– Видишь ли, мы… Аста и я – мы достаточно вербальны оба, мы в его мире. Много места мы, правда, не занимаем, но – вполне наблюдаемы и, думаю, присутствуем там более или менее стабильно.
– Что значит – «стабильно»?
– Ну… он, конечно, не вспоминает о нас каждую минуту, но когда вспоминает (как бы редко это ни случалось), то находит нас у себя внутри: мы часть его мира, а ты, увы, нет.
– И слава Богу!
Вот так, кстати, говорить не следовало. Потому что, говоря так, Нина добровольно отказывалась от них обоих – от Ансельма и Асты: оставайтесь, дескать, где вы есть, а я пошла! Но Нина – не вербальный человек, она не слышит, как звучит ее «слава Богу»… Впрочем, как бы ни звучало: она измучилась уже, пропадите вы там все пропадом в своем прекрасном вербальном мире, задохнитесь в своих глоссах – она, честное слово, гроша медного за них не даст. Ей бы только Асту оттуда (оттуда? – она уже и сама пользуется их пространственными ограничителями!) вызволить… пропадет ведь ребенок!
– Мама, знаешь, как тебя бы в Южной Америке называли? Эль-Нино! – И убегать…
– Аста, деточка, постой… Скажи мне, почему эль-Нино!
Но та убежала уже.
Она не слушается Нину – совсем. Нина для нее не авторитет. Это Ансельм может одним словом пригвоздить дочь к месту: скажет слово – и та на бегу замирает. А какое слово – да вот хоть и знаменитое свое, «волшебное»:
– Asta-la-vista!
И – все, Аста стоит как вкопанная.
Но Нина не хочет и не будет прибегать к чужим волшебным словам, а своих у нее нет. И потом… она, в конце концов, мать – значит, имеет право на то, чтобы дочь безо всяких волшебных слов относилась к ней с уважением.
Поезд качается, Аста спит, спит и Ансельм с книжкой на брюхе, название книжки – «Патологии речи»… – неуютно, но Нина снова и снова прочитывает: па-то-ло-ги-и-ре-чи, па-то-ло-ги-и-ре-чи, па-то-ло-ги-и-ре-чи на обложке, да и колеса стучат в ритме па-то-ло-ги-и-ре-чи – и Нина не спит, не спит, не спит. Потом отрывается от обложки, смотрит на спящих и любит их изо всех сил. Пусть они простят ее за то, что она такая невербальная, но если не дал Бог… что ж делать, пусть они простят ее. И пусть простят за то, что ну никак ей не удается полюбить этого чудака, в которого так влюблены и Ансельм и Аста. Ну, Аста – ладно, Аста – дитя, вырастет и разберется, но Ансельм? Хотя он, понятное дело, исследователь, психолог: наверное, этим и надо все объяснить. Правда, Нина, было дело, спросила Ансельма осторожно: «Тебя он как case интересует?» – и Ансельм ответил нет, но для Ансельма ведь так или иначе все – case. Даже я case, даже Аста, и от этого страшно. И еще страшнее от того, что Ансельм, в сущности-то, и сам не знает, что для него case… что для него все case – и, может быть, сумасшедший-то как раз Ансельм, а не исследуемый им чудак. Но Нина боится признаться себе в этом.
Ей удалось сколько-то поговорить с женщиной-вином, Лидией… странно, кстати, что пять лет в Германии и такой плохой немецкий. Муж-то вообще бессловесный, а Лидия разговорчивая – может, и хорошо, что язык не сильно знает, а то ведь такая насмерть заговорит!..
Забавно, что Лидия к чудаку тоже как мать относится: неужели он у всех женщин такое к себе отношение вызывает? Да нет, вроде, не похоже: Кит, например, ему на вид совсем не мать.
Кстати, Нина чуть не расхохоталась в голос, когда Лидия начала их всех просить «присмотреть за сынком»… интересно, как Лидия это себе представляет – присмотреть? «С ним любой случай может быть, он потерять может кошельку, в противоположного поезда сесть себя, не съесть пища, зажечь кровать от сигарета, он об этот не думает, он думает только написать что, он художественный… von dem Wort “schlecht”», – увещевала Лидия.
Как это – художественный… von dem Wort «schlecht»? Непонятно, что имеется в виду. Но понятно, что – не комплимент. Ужасный у этой Лидии все-таки немецкий. При том, что сама Лидия трогательная: получила часики в подарок, сразу к уху поднесла: тикают ли? И потом с удивлением закричала: тикают, тикают! И стала каждому присутствующему их к уху подносить, чтобы послушали и тоже сказали: тикают. Словно для часов не обычное дело – тикать!
Даже неловко сделалось: как будто она человека в том подозревала, что он ей часы сломанные, которые не тикают, подарить может… И все слушала, как они тикают, и подтверждала: тикают, тикают – на лице праздник. Ей, небось, если шоколад подарить, тоже сразу откроет, откусит, начнет всем в рот совать и удивляться: сладкий, попробуйте только, сладкий!