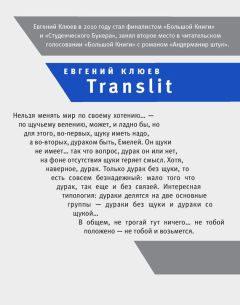«Самое страшное для сумасшедшего, – сказал как-то Торульф, – это задуматься». И он, следуя Торульфу, не задумывается, дабы не запускать в ход всю громоздкую машинерию больного сознания, не громоздить воображаемые объяснения на воображаемую действительность, порождая, таким образом, воображаемое третьего порядка. Но на сколько его хватит? Пока-то удается еще усыплять себя всякими дурацкими доводами, вот как по пути на палубу, когда он вдруг сказал в сердце своем: можно подумать, ты помнишь все, что с тобой происходило!
Нет, он не помнил всего. Он, стыдно признаться, помнил мало. И не потому, что у него плохая память, а потому, что много не помнит никто. Самое страшное доказательство тому было получено им уже давным-давно, во второй или третий приезд эмигрантом в Россию.
Они встретились с Полиной случайно, он поднимался по Кузнецкому, она – спускалась. И, в общем, все было как будто и ничего сперва… нежаркий летний вечер, какая-то водичка минеральная, вялый разговор, недраматично умирающий и вот-вот уже мертвый, когда добавляют только ну-ладно-пока-увидимся – и расстаются, чтобы наперед быть внимательнее и никогда больше не ходить по кузнецким мостам.
Но тут как раз Полину вдруг и угораздило предъявить крохотную претензию-не-претензию… да, этакой фигушкой-на-постном-масле – чтобы жизнь, значит, совсем уж раем не казалась. И – выяснилась престранная вещь: события, по поводу которого претензия предъявлена, не было в его памяти. Здесь важный момент в чем: не то чтобы событие помнилось по-другому – событие не помнилось вообще! И еще хуже: событие не то чтобы не помнилось – оно просто не происходило, в доказательство чего можно было даже отдать на отсечение голову, потому как в голове, где события располагались одно за другим плотным рядом, места для этого, нового, события попросту не имелось.
– Минуточку, – так и сказал он, – боюсь, что меня не было тогда рядом.
Согласитесь, более щадящие формулировки вряд ли и существуют.
– То есть, как это – «не было»? Ты же и устроил все это. Если бы тебя не было, то и… ничего бы не было, вокруг тебя же оно и вертелось!
Разумеется, это «оно» было названо по имени и датировано, но – речь не о нем, речь в принципе: не было!
– Еще минуточку, – сказал он, – если бы оно вокруг меня вертелось, то… обязательно должно было бы иметь последствия в моей жизни, не могло бы не иметь последствий, хоть столько-то ты понимаешь?
Полина, разумеется, и столько, и даже еще больше понимала – и, понимая, смотрела на него честными-пречестными своими глазами и помнила то, чего не было, при этом обвиняя его в том, что он не помнил того, что было… а оно, на его взгляд, гораздо меньшее, между прочим, преступление: то есть, если за забвение того, что было, надо пятнадцать суток условно давать, то за память о том, чего не было, – минимум год строгача! Если это, разумеется, не болезнь опять же.
И неважно и совсем неинтересно, как закончилась их встреча с Полиной (да хорошо закончилась, они оба люди худо-бедно воспитанные), но важно и очень интересно, что с этого дня – ах, с этого ли, правда, дня… не много ли раньше! – он знает: ничего из случающегося здесь и теперь не случается для всех присутствующих. Некоторые из них в этот момент просто смотрят в другую сторону. Вот-вот, поглядите, вот же! – Где? – Поздно, кончилось… Звезда упала.
Он вспомнил название главы в одной из книг Торульфа: «Спектакль без зрителей» – глава открывалась вопросом, почему отменяют спектакль, который никто не пришел смотреть.
Размножение домов. Дома размножаются почкованием, когда чувствуют, что настала такая необходимость (появление нового члена семьи, новой семьи, просто желание хозяина). Из маленького выроста появляется все больший – до тех пор, пока хозяин не посчитает нужным остановить рост.
Построение семей. Когда встречаются два человека и решают соединить свои судьбы, происходит слияние домов. Позже дома будут определять жизнь человека и по собственному усмотрению сливаться, а их обитателям придется жить вместе. <…>
Будущее дверей. В недалеком будущем двери будут отменены, а значит, замки и ключи будут не нужны. При желании они могут быть заменены тонкой тканью. Когда обитатель будет готов принимать гостей, он только снимет ткань, что послужит знаком того, что он находится в ожидании визита. Но это редкий случай. В основном, это не будет пользоваться популярностью. Таким образом, все станет общественным местом. Дома будут соединены между собой. Не будет необходимости пользоваться транспортом. Дороги будут заменены длинными запутанными коридорами. В связи с происходящими переменами количество домов будет также уменьшаться, а размер увеличиваться. Пространство напоминает лабиринт. Это повлияет на внутреннее строение дома: появится больше коридоров. Границы остаются, но они только внешние. Таким образом, будут появляться новые замкнутые пространства, которые будут служить комнатами отдыха от лабиринтов. Отказавшись от дверей, люди перестанут бояться окружающего мира, т. к. дом будет являться частью этого мира. Уже не будет той зависимости от дома, в котором они живут, и, следовательно, человек везде будет более самостоятельным и сильным духом. Дверь будет заменена коридором, так чтобы, проходя мимо, нельзя было увидеть происходящего в помещении, тем самым увеличится количество углов. Чтобы их уменьшить (именно там будет появляться пыль), нужно избавиться от них и придать целостность помещению (т. к. углы его разделяют на части){18}.
Снип-снап-снурре, пурре-базелюрре приказывало долго ждать, очень долго – не всплывая ни в каком датском контексте, кроме… стыдно сказать, в качестве собачьего имени: каждую третью собаку звали Снип. Нет, тени значений иногда маячили то тут, то там – правда, опять же в предельно бытовых контекстах – и представить себе, что этим значениям делать в волшебной сказке, он не мог никак. Еще труднее было представить себе, что им делать в волшебной сказке всем вместе и каким ветром их вообще прибило друг к другу. Даже Снежная Королева, повелительница ветров, не давала ответа: в оригинале сказка украшалась совсем иначе – не известным ему с детства хлопотливым набором звуков, а спокойным псалмом:
Roserne vokser i dale,
Her far vi barn Jesus i tale!
И вообще Андерсен – которого в Дании только и называли Хо. Сэ. (по первым буквам имени… двух имен, Hans Christian), что иностранцы устойчиво воспринимали как «Хосе» и ломали головы, откуда у датского сказочника испанское имя – не оказывался, со всей очевидностью, игруном, а оказывался, в основном, серьезным и часто морализирующим дядей, которому никакие посторонние снип-снап-снурре, вроде бы, не полагались: «младенец Иисус» был для него как раз самое что ни на есть то, а вот снип-снап-снурре…
Это про младенца Иисуса, стало быть, и распевали воспитанные в строгом лютеранстве Кай и Герда, держась за руки и выписывая ногами кренделя по полу – и никаких тебе снип-снап-снурре, никаких закодированных сообщений, никакого привета из детства и никакого детства вообще, ничего. Но язык-то все равно был датский – вот что странно. Может быть, это старый милый Шварц перекликался с ним датскими трелями – и не из страны в страну, а из города в город? Из Петербурга – в Тверь?
– Снип-снап-снурре!
– Пурре-базелюрре…
Ах ты, Господи-Ты-Боже-мой… как же все запутано в этой жизни.
Он начинал потихоньку влюбляться в Данию: ни за что… – как мы все влюбляемся. Даже, пожалуй, не рассчитывая на взаимность… и то посудить: зачем он – Дании? Маленькой Дании, в которой по-аптекарски точно рассчитано, кого любить, кого нет, в которой любовь и к своим-то раздается по чайной ложечке в большие праздники… куда тут лишний рот? Но, слава Богу, никогда он не был человеком, требовавшим любви за любовь, так что ломать себя не приходилось. Многие из тех, кого он любил, так никогда и не узнавали об этом, и хорошо, что не узнавали: не ровен час, отвечали бы встречным чувством, а оно обязывает! Любить – не обязывает, а быть любимым еще как обязывает.
И жизнь, стало быть, шла себе вперед – потихонечку, помаленечку, опять же, как и всё в Дании: потихонечку, помаленечку, по чайной ложечке. Прочих тамошних иностранцев это бесило, а его – радовало, потому что не надо, не надо, не надо спешить. Вживаться в страну – работа, долгая, изнурительная и неблагодарная работа, так к этому и следовало относиться, так он и относился. И никуда, значит, не спешил: хватит, наспешился в России.
И чего он сейчас мучается нестыковками всего со всем, когда вот уж скоро пятнадцать лет ничтоже сумняшеся живет двумя жизнями – датской и русской… и никак ему это, похоже, не мешает. Какая к черту разница, чей он гражданин, гражданство – паспорт, бумажка со штампами, был один, стал другой, да и цвет один и тот же: спелой вишни, как занавес для малютки Герасима!