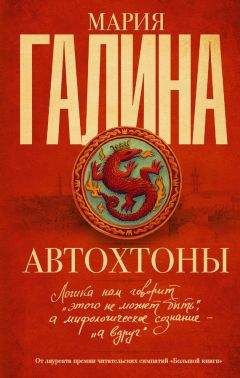Слова «миссия» и «мастер» Воробкевич произносил так, что буква «М» прямо-таки пылала малиновым огнем, словно у входа в метро.
Контактеры жались в дверях. Он предложил им оставить свои пуховики в ауди, но вид у них все равно был не очень. Ему пришлось употребить все свое влияние, чтобы их пропустили. Иными словами, всучить охране взятку.
На столике в углу стояли бокалы с шампанским. Он взял бокал и пошел по фойе, прислушиваясь к разговорам. Дамы в черном хвалили колорит и экспрессию. Дамы в красном громко удивлялись: «Ой, а это что? Смотри-смотри, какая у него голова!» Мужчины в пиджаках, хорошо сшитых, но тоже, как и у мэра, тесноватых, вальяжно беседовали, то и дело прерываясь, чтобы что-то сурово проговорить в мобильник. На картины они не обращали внимания. На Воробкевича, кажется, тоже. Мужчины в замшевых пиджаках, напротив, внимательно рассматривали картины, подходили ближе, вытягивали худые шеи, отходили с брезгливым недоумением. Зато Марина получала неподдельное удовольствие, переходя от картины к картине с праздничным, оживленным лицом. Она постаралась одеться понарядней, но все равно выглядела совершенно неуместной. Она выглядела именно так, как и должна выглядеть буфетчица кафе «Криница», которая постаралась одеться понарядней.
У картины, изображающей школу философов в кратере Эратосфена, стояли по бокам вольные райдеры, держа в лапах жестянки с пивом.
– Упырь, – сказал он. – Мардук! Мое почтение!
– И ты здравствуй, брат, – сказал Мардук.
– Любуетесь?
– Так, любопытствуем, – сказал Упырь. – Хотя, честно говоря, колорит так себе. Не знаю, на что надеется твой друг Воробкевич, но это не раскрутишь. Разве что при помощи сопутствующей легенды, и то…
– Я бы сказал, Баволю не хватило божественного безумия, – сказал Мардук. – Недостаточно радикален. Умеренность хороша в привычках, но вредит искусству.
– Честно говоря, я ожидал большего, – сказал Упырь.
– Не Херст, – согласился он.
– Херст – просто ловкий менеджер, – сказал Мардук.
– Постдюшановский эпигон, – сказал Упырь.
– Если дорога в конце концов привела к Херсту, значит, дорожный инженер был мудак, – сказал Мардук. – Как полагаешь, брат?
– Скажите, а вы правда волк и волчица? – спросил он неожиданно для себя.
Упырь моргнул рыжими ресницами.
– А не твое собачье дело, брат, – сказал Упырь..
Воробкевич, наконец, отговорил свое и теперь направлялся к ним. По сравнению с роскошными вольными райдерами Воробкевич казался очень маленьким. Сквозь редкие серебристые волосы просвечивал череп.
– Ну… как вам? – спросил Воробкевич возбужденно.
– Впечатляет.
– Я сделал все, что мог, – сказал Воробкевич. – Все, что мог…
Руки Воробкевича при этом беспокойно двигались, словно бы ища что-то. Или стряхивая что-то. Воробкевич вообще не очень хорошо выглядел. Щеки обвисли мешочками, на скулах паутина кровеносных сосудов…
– Вас что-то тревожит? – спросил он тихо.
– Шпет… он опаздывает. – Воробкевич вновь суетливо пошевелил ручками. – Он должен был говорить на открытии. А уже пора открывать. А его нет.
– Так позвоните ему.
– Я звонил. Он не отвечает.
– Может, не слышит. На улице шумно.
– При чем тут улица? Я ему домой звонил!
– А на мобилу?
– У него нет мобилы! Зачем ему?
– Да, – сказал он, – действительно, зачем?
– Я больше не могу ждать. – Воробкевич нервно потер ладони. – Меня не поймут.
Воробкевич покрутил шеей, пытаясь устроить ее поудобней в крахмальном вороте рубахи. Кто сейчас носит такие рубашки?
Ножка у микрофона, стоявшего в центре фойе, оказалась высоковата, и Воробкевич выдернул микрофон из гнезда.
Это знаменательный день, говорил Воробкевич, откашлявшись в микрофон для привлечения всеобщего внимания, это, можно сказать, день возвращения. К нам возвращается гений. Мир возвращается в сообщество мировых разумов. Вселенная – сонмище миров, на которые наброшена мерцающая золотая сеть разума, говорил Воробкевич. Мы, люди, по какому-то глубинному недоразумению, возможно в силу своей недостаточно совершенной природы, не вплели свою нить в эту прекрасную ткань… Но есть во вселенной силы, которые готовы протянуть нам руку. Тщетно, века и тысячелетия, они пытаются достучаться до нас, но мы не слышим.
Контактеры придвинулись ближе и теперь синхронно кивали, словно бы ставя пластическую точку в конце каждой фразы. Он думал о разбитом хрустальном яйце, неугасимо светящемся в кармане Викентия, о странных существах, подлетающих к единственно действующему передатчику и видящих на своих загадочных мониторах лишь ворсинки замши и иногда трогающую их чужую пятипалую руку.
Может, и правда, думал он, глядя на мятые лица контактеров, они живут здесь, с нами – давно, незаметно? Ходят среди нас, притворяются людьми… Но зачем, зачем? Кому мы, в сущности, нужны, со всеми своими маленькими страшными тайнами, мелкими пакостями, скучными бедами?
А ведь это их существо с треугольным лицом и переливающимися фасеточными глазами чем-то похоже на Валевскую! Даже маленький скорбный рот был таким же.
А где же у нас… Ага, вот!
Меломан стоял рядом с полотном, изображающим, судя по табличке с названием, праздник весны на Юпитере. Его-то пропустили без проблем, поскольку меломан был в черной фрачной паре, правда залоснившейся, видимо тоже передававшейся от отца к сыну. Двое других меломанов стояли поодаль. Вид у них был напряженный и растерянный. Вчера ему, кажется, удалось от них радикально оторваться. Мало кто способен втиснуться в переполненную маршрутку, особенно если эта маршрутка идет в Гробовичи. Или Бреховичи.
Он скользнул сквозь толпу, постепенно сгрудившуюся вокруг говорящего Воробкевича, и тихонько похлопал по плечу Викентия. Тот вздрогнул и подпрыгнул на месте. Да что ж они все такие нервные.
– Этого видите? – сказал он шепотом. – Вон тот, в черном. И еще двое, там и там. Видите? Вам не кажется, что они за нами следят?
Викентий вытянул шею, судорожно выискивая взглядом в толпе.
– Да, – сказал Викентий, тоже шепотом. – Вон там, и еще вон там. Ох!
– Это они! Если взять их сейчас… удобный момент, вам не кажется?
Викентию не хотелось никого брать, хотелось съесть сыр на шпажке и выпить шампанского, но было стыдно в этом признаться.
– Потом будет поздно, – сказал он зловеще.
– Да, – виновато отозвался Викентий и расправил плечи. – Да, конечно!
Он смотрел, как Викентий шепчет что-то на ухо нервному и оба они – властелину колец. Потом все трое решительно двинулись в сторону меломанов. Меломаны попятились. Контактеры ускорили шаг. Меломаны тоже. Он благожелательно наблюдал, как сначала одни, потом другие, все ускоряясь, исчезают в дверном проеме.
Воробкевич продолжал говорить о том, какое это счастье лично для него, для Воробкевича, видеть, что работы такого замечательного художника извлечены из забвения на свет телекамер…
На Воробкевича никто не смотрел. Все смотрели на дверь.
Маленькая, белая, в зеленоватом и синем, переливающемся, юркая и гибкая, как рыбка-уклейка… Или змейка, подумал он, да, скорее, змейка. Маленькая, изящная, смертоносная.
Она проскользнула меж женщин в черном и женщин в красном, меж мужчин в черных парах и мужчин в джинсах. Бледное треугольное лицо с огромными черными глазами ничего не выражало.
Воробкевич делал вид, что ничего не замечает, это был его звездный час, и он не собирался тратить хотя бы малую его часть на какую-то там Валевскую. Это он напрасно, такие, как она, не прощают. Ему следовало бы прерваться и бурно приветствовать ее, хотя она, не замечая никакого Воробкевича, скользнула мимо, и… ну да.
Она вдруг оказалась прямо перед ним, острый подбородок задран, расширенные глаза впились в его глаза, поцелуй, самый страстный, и то не был бы таким страстным, таким интимным, как этот взгляд. Неужто язык цветов…
Она придвинулась совсем-совсем близко.
– Bezecnik! – сказала она и ударила его по лицу. Рука была холодной и влажной. И очень сильной.
Разговоры разом смолкли, все лица обернулись к нему – бледные воздушные шарики лиц с парными зрительными органами. Даже Воробкевич смолк.
– Янина, – сказал он, – я…
Но она уже повернулась и прошла сквозь толпу, бледная, с высоко поднятой головой, каблучки простучали по паркету фойе. Змеиная шкурка блеснула в дверях и пропала. Воробкевич откашлялся.
– О чем я… да… так вот. Баволь внимал музыке сфер. Вот в чем все дело. Музыке сфер.
Воробкевич опять откашлялся, шея его дернулась в жестком чашелистике воротника.
Он видел, как на шее Воробкевича напрягаются жилы, как трясется горловой мешок.
– Мертвая рука, – сказал Воробкевич высоко и отчетливо, – знаете, что это такое?
Собравшиеся, которые ждали, когда нудная обязательная программа закончится и можно будет наконец выпить и поболтать, тем более два официанта в фрачных парах и фартуках с логотипами «Зеленого пса» уже расставляли на столиках новые подносы, на сей раз с разноцветными тарталетками и бутербродами с розовым лососем, вновь смолкли и повернулись к Воробкевичу.