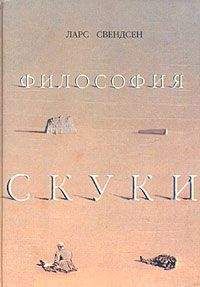– Ты проводишь дни в клубах? – повторяет Грудин собственным далёким эхом.
Теперь у него в руках блокнот.
Это и есть психоаналитический сеанс?
– И ночи.
Скрывая усмешку, Грудин поправляет очки.
– Не наигрался в солдатиков?
Устин взбешён.
Он краснеет.
И выкладывает всё.
Да Пигмалион, да Галатея! И что? Мне нравится быть богом. А что ты скажешь, я наперёд знаю: бегство от реальности, сублимация, эскейпизм. И дальше? Меня ревнует жена? К кому? К моей же проекции? К бесплотной тени? Пятну на экране? Так кто из нас двоих сумасшедший?
Устин вскакивает с кушетки.
А ещё ты навесишь ярлык игромана. Плевать! Я влюблен платонически, я всего лишь движущая сила чужой страсти, я энтелехия, а ты трахаешь мою жену!
Сеанс никак не начнётся.
Устин, сцепив зубы, молчит.
– Мы ведь тыщу лет знакомы, – меняет тактику Грудин, – давай поговорим, как друзья.
О, это уже лучше! Ты – не врач, я – не пациент, а жена ни о чём не просила. Прекрасно! Только это ложь.
– Много работы?
– Хватает.
Грудин рад прорыву, но себя не выдает.
– А, скажи, какой процент сумасшедших должен быть, чтобы общество считалось здоровым?
Теперь молчит Грудин.
– Как считать, много больных не выявленных… Так и живут до старости.
– Их процент должен приближаться к ста. Тогда все будет в порядке.
– Думаешь?
В Грудине снова просыпается психиатр.
– Ну, конечно. Демократия – это когда число мыслящих становится пренебрежимо мало. Это делает общество устойчивым и легко управляемым. Значит, и ненормальных должно быть абсолютное большинство.
– Не вижу связи.
– Протри очки! – В Устина вселяется Обушинский. – Ладно, объясню по старой дружбе. Сумасшедшие не умеют договариваться, каждый сходит с ума по-своему, значит, им не грозит коллективное помешательство. Миллиону психопатов никогда не пасть жертвой какой-нибудь безумной идеи. А разве не в этом цель государства? Оно заботится, чтобы мы жили мирно и счастливо…
Обушинский не выдерживает.
Устин хохочет.
Грудин снимает очки.
– Признаться, ты меня напугал. И часто у тебя такие мысли?
– Других нет.
Устин скалится.
Или это Обушинский?
– И что мне сказать твоей жене? – делает последнюю попытку Грудин.
– Правду. Скажи, что я – сумасшедший, и у неё нет поводов волноваться.
Сеанс окончен.
Грудин давит окурок в пепельнице.
Устин откланивается.
Обушинский хлопает дверью.
Жена встречает Устина с нескрываемым любопытством. Пахнет креветками, которые она обожает и варит чуть не каждый день, дверь в комнату нараспашку, а в воздухе висит: «Ну, давай же, выкладывай, как всё прошло». Облокотившись о стену, Устин, задирая в прихожей ногу, расшнуровывает один ботинок, потом, симметрично поменяв положение, другой. Жена молча ждёт. Он вешает пальто, запихивает в рукав шапку, достаёт из кармана ключи, которые кладёт на полку. Скрестив руки, жена переминается в дверях. А почему? С какой стати он должен давать отчёт? Он тоже умеет играть в молчанку. Жена не видит в пришедшем Обушинского, для неё этот незнакомец по-прежнему Устин, тот самый, который рано или поздно сломается. Она заслоняет дорогу. «Если тебе интересно, позвони своему любовнику», – поставил бы её на место Обушинский. Устин бы остановился и с виноватой улыбкой раскололся. Незнакомец, которого она вдруг увидела, избирает промежуточный вариант – молча отодвигает её в сторону. Пройдя в комнату, он берёт с полки книгу и, сев на диване с плюшевыми валиками, погружается в чтение. Жена ошарашена. Она понимает, что возвращается в детство – кто первым произнесёт слово, тот проиграл, а на кону – её власть, каблучок, ответ на вопрос, кто в доме хозяин. Но терпения ей не занимать, она ходит кругами, как кошка, облизываясь, иногда её язык непроизвольно поворачивается, готовый выразить её недовольство, тогда она спешит на кухню, достаёт из кастрюли креветки и, положив в рот, жуёт…
Устин пробует читать.
Слюнявя палец, переворачивает страницы.
А сам представляет Грудина, который в это самое время ходит из угла в угол и, вспоминая их разговор, повторяет: «Посмотрел я на тебя, а узнал я, брат, себя», точно Устин ещё лежит на кушетке. Устин уже сожалеет о своём поведении. К чему были все эти обобщения? Чем вставать в позу, не проще ли было рассказать про Устину? Можно было даже пригласить в клуб, включить в игру. Нет, этого делать не стоило. Этот зануда всё бы испортил. Любитель разрушать чужие жизни, всюду сующий нос. Того и гляди, отнял бы Устину, как жену. А она молодец, держится, упрямства ей не занимать! Устин тайком поглядывает на фотографии, развешенные по стенам, где они вместе, счастливые, молодые, на которых она ещё любит его и будет любить вечно – только там.
Устин представляет:
Подойти, обнять, произнести с дружеской улыбкой: «Долго будем в молчанку играть?» или «Так нечестно – набирать в рот воду, но ты всё равно победила, сдаюсь». Так поступил бы Устин. «Выплюнь воду – зубы простудишь или заработаешь кариес», – съязвил бы Обушинский. Незнакомец молчит. Сидит на диване и строит из себя книгочея. Сколько это будет продолжаться? Пока не закончится книга? Тогда можно будет взять следующую. Демонстративно, вызывающе – жена этого не перенесёт. Или раньше? Когда придёт ночь и захочется спать? Тогда можно растянуться прямо на диване, не раздеваясь, с книгой, которая незаметно перекочует в изголовье или, раскрытая посередине, защитит глаза от света, слегка давя на нос, приятно пахнув типографской краской.
– Неудачник!
Жена чувствует, что проиграла, и от этого кричит ещё громче.
– Жалкий, ничтожный лузер!
Но молчание незнакомца действует сильнее. Его слышно на улице.
– Неудачник? – Пауза выдержана до конца, выжата до последней капли. – А кто это? Разве есть эталон для сравнения? Или все знают, кто такой успешный? Счастливый? – Град вопросов подавляет последние очаги сопротивления. Можно продолжать не спеша, назидательно, не поднимая глаз, водя пальцем по страницам, будто вычитывая в книге. – Слово «лузер» пришло из Америки, когда там было много земли, много свободы, масса возможностей, так что только ленивый не мог себя прокормить. И отношение к таким было оправдано. Теперь это в прошлом. Но оскорбление осталось, эта пустая оболочка кочует по континентам вместе с Голливудом, его используют, привнося свой смысл. А какой, неведомо.
Лекция окончена.
Незнакомец захлопывает книгу.
С такой же силой, как Обушинский захлопнул бы дверь. Он ещё бросает на прощанье, Устину кажется, совсем не к месту: «Господь создал людей разными, но его величество доллар всех уравнял».
О, Устина, жар моих чресл! Недосягаемая, ты никогда не будешь в моих объятиях, ты та, которой нет. Кто-то звал тебя Дульсиней, Маргаритой или Еленой. Это ты качала страусовыми перьями, твою улыбку срывали, вышибая соперника из седла, это за тобой приплывали корабли, список которых долог, как ночь. Каждый ждёт тебя, как еврей – мессию, спасаясь своей выдумкой. О, Устина, олицетворённая мечта, которая сопровождает нас вместе с ксантиппами, примеряющими нам венец мученичества, делающими из семейной жизни пропуск в рай.
Я люблю тебя!
И ненавижу.
Разве моя страсть преступна?
Воскресное утро, я ещё валяюсь и, зажмурившись, слежу за прыжками по стенам солнечных зайчиков. Жена вошла без стука, без приветствия. Делает вид, что боится меня разбудить. Повертевшись перед зеркалом, нацепила платок.
– Пойдёшь со мной в церковь?
Голос безнадёжный, пробует на всякий случай.
Я качаю отрицательно.
– Сегодня красивая служба, воскресенье – малая Пасха.
Разуверившись в моей религиозности, она взывает к эстетике. С тем же результатом. Разве только теперь добилась от меня разжатых губ:
– Нет.
Пожав плечами, она медленно, точно надеясь, что я передумаю и брошусь её догонять, закрывает дверь. Но я не передумаю. Я занят тем, что рассуждаю. Монотеизм, политеизм. Бог один, богов много. У бога нет имени, кроме тайного, у него бесконечное множество имён. Всё это разделение слишком человеческое, как и сам счёт: раз, два, три… Размышляя о Боге, я всегда представляю его в виде нескольких пятен, как на картинах пуантилистов, почему нет, если он непостигаем, почем бы ему не иметь и такую форму, но тогда возникает вопрос: он каждое из пятен, или их сумма? Их много или он один? А если Бог – делящаяся амеба? Можно бесконечно ломать копья по поводу того, в какой момент – если для Бога есть время – он один, а в какой удваивается. Нет, похоже, божественная идея порочна, хотя, надо признать, заманчива. Впрочем, я много умничаю, а значит, как говорит жена, чего-то не понимаю. Возможно, это так. Жена всегда права. Её гонит в храм страх смерти. А меня томит и пугает отсрочка, оттяжка неизбежного, но смерть, как сказал один безумный немец, достаточно близка, чтобы её бояться. И это меня успокаивает. Мы с ней совершенно разные, даже в этом у нас разные механизмы защиты. Хотя почему «даже», это определяющее…