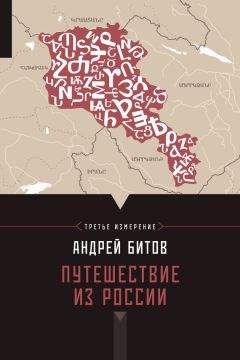Ах, все это мне напоминает рассуждение о том, что сейчас обыватель живет лучше средневекового короля, потому что пользуется санузлом.
Тем удивительнее, что не прошло и суток, как я приземлился в Ургенче.
Машины, которая меня ждала, не было. Я вдыхал азийские сумерки, стоя на дрянной фанерной площади. Было тепловато, густовато и темновато. Как будто бы пыль под ногами – толстым непотревоженным слоем – так мягко. Глуховатость после самолета очень пригодилась, она как бы принадлежала этому месту, как ватность и сумерки этого местечка. Была тут некая ватная изнанка прибытия, похожая на заслуженный узбекский стеганый халат. Я предавался детскому ощущению нового места, в котором ничего из того, что я чувствовал, не было.
Забронированный для меня номер был занят ревизором. «Корреспондент – тоже своего рода ревизор», – сказал я, обнаглев до отчаяния. Мне казалось, что я пустился во все тяжкие, раз говорю такое, но это-то как раз и было необходимой нормой. Номер-то, забронированный под ревизора, еще не был занят.
Но я уже отказался воспринимать сопротивление среды как продолжающуюся систему сигналов с моей звезды – я уже далеко заехал и должен был теперь с этим считаться как с ненапрасным поступком своей жизни. Получалось это пока плохо, но я предпочел линию чистого неудачничества вместо осознания, что просто это не та линия.
Вот что меня удивит, когда я переступлю порог своего номера и бегло и бывало осмотрю его, исполняясь неточной тоскою позитивиста-неудачника: почему это именно я должен именно тут жить? Но, с другой стороны, именно тут буду жить именно я – вот что меня удивит. А ведь я командирован в Хиву не за тем, чтобы описать, что со мной здесь, в результате этой хирургии пространства, произойдет, а с тем, чтобы никогда не написать об этом. Что-то я никогда не читал, чтобы писали о том, что с ними произошло, – всегда о том, что происходило без них… Значит, сейчас я должен, искусственно и невозможно, построить свою жизнь так, чтобы стать свидетелем тому, в чем я не участник. Оригинально… Меня командировали лишь за юридическим правом подставить в текст, который должен быть, свежие географические и человеческие имена, а не за тем, что есть. Я должен приобщить неизвестное к известному в одном лишь качестве уже известного. Надо было так мучительно, так физически преодолевать пространство, чтобы сказать: я там был, командировка отмечена, – и подставить имена людей, минаретов и местностей… Так думал я, озирая свой номер, – он был подобен: в стране жаркой и пыльной надо было накрыть круглый стол синим панбархатом и поставить на него все тот же графин с мертвой водою, чтобы номер был люкс.
«Ах нет! – сказал я себе в сердцах, пнув чемодан под кровать. – Мне все кажется, что раньше я лучше был. А раньше я еще хуже был».
Удалимся под сень струй…
Гоголь. Ревизор
Да, раньше, лет десять назад, и немудрено было быть лучше… Тогда я приехал в Среднюю Азию с нерастраченными образами детства. Мне достаточно было одного слова, чтобы за ним вставал не опыт, а образ. Произнесу про себя магическое слово «базар» – и, что бы ни предстало перед моими глазами, какая-нибудь мусорная дрянь, увижу персидский ковер, тысячу и одну ночь и шемаханскую царицу; скажу себе «верблюд» – и передо мной не патологическое животное, а мифологический зверь; скажу себе «лагман» – и это не общепитовское варево, от которого страдает печень, а как бы даже не знаю что, некий черепаховый ананас. Правда, тогда мне можно было и ничего не показывать: из одного факта приобщения к этим словам рождал я картину, которую не заслоняла никакая действительность. Теперь, впрочем, мне тоже можно ничего не показывать – и на берегу Индийского океана, в каких-нибудь там саваннах и сельвах, увижу я две трети голодающего человечества и подавлюсь ананасом.
Раньше, скажем, все было просто: насытив свой голодный и молодой механизм лепешкой с кок-чаем, садился я на попутку и ехал, куда она меня везла; теперь никак не найти, где пообедать: ресторан всего один, и готовят в нем оскорбительно, а чтобы достать машину…
Вот про доставание машин я теперь могу много рассказать. Пешком ходить быстрее и проще, но положение обязывает… Поэтому я живу не в Хиве, куда послан, а в тридцати километрах от нее, где гостиница лучше. Поэтому пешком я теперь хожу в райком, где мне дают машину. Но вот как ее дают! Это тонкая и развитая церемония, изучению которой я посвящаю утренние лучшие часы. После полудня вы уже не достанете машину никогда. Не потому, что они в разъезде, а потому, что если человек целое утро достает машину и до сих пор не достал, то такому человеку можно ее и не давать, машину. Это не солидный человек. Первую свою машину я достал легко: Нияз Ниязович Ниязов долго сличал меня со словами «Москва», «спецкорреспондент» – и решил не рисковать, дал. Очень я запомнил этот его умный, печальный взгляд, его длину; эти красивые, влажные глаза терпеливого животного, два глаза – над двумя очень отдельными и белыми существами рук, с большой чистотой под ногтями широких, как клавиши, пальцев… Он посматривал с доброй грустью на их возню, пока решал про себя с машиной, горько и мягко улыбался и кивал. Размеры услуги росли, как лавина. Я не встречал более отзывчивого человека. Но мне не удалось прибегнуть к его помощи вторично.
Да, и этого тоже со мной не было десять лет назад – проводников и сопровождающих. Все-таки я был лучше. Я был свободен. Свободен и от положения, которое обязывает искать привилегии и левые пути. И от действительности, которой не знал.
У меня была еще надежда на некоторый свой опыт разочарования в разочаровании. То есть что Ургенч Ургенчем, а Хива меня потрясет своим несовпадением с моими представлениями, окажется прекрасной совсем в ином качестве и отобьет оскомину умозрительных совершенств… И пока мы катили туда на первой, удачливой машине Нияза Ниязовича Ниязова, я все стискивал свое сердце предчувствиями, массировал свои эмоции до юношеской гибкости. Но дорога была унылой, и пейзаж по сторонам ни к чему не располагал: это была плоская весенняя земля одинокого серого цвета, накрытая, несмотря на безоблачность, каким-то тусклым, седым небом, – она еще не зеленела всходами и не цвела. В ней, однако, не было ничего из той унылой и индивидуальной красоты тундры или степи, которую можно, при желании, углядеть, а потом утверждать, что полюбил всем сердцем эту неброскую, но щемящую красоту. Это была земля под хлопок, с отчасти недорытыми ирригационными канавами: вид развороченной земли тоже ничего не красил – это была земля под хлопок, и, по-видимому, другой функции у нее не было.
Ах, если б мне тогда подсказали, что эта пасмурность безоблачного неба, эта муть в пейзаже объясняются словом пустыня на горизонте, я бы вынул другие глаза! Но мне никто не помог словом… В общем, я утомился натаскивать себя на красоту и поэтому очутился в Хиве внезапно и с удовольствием. Это был город-городок, и, пока мы по нему ехали, от окраины, похожей на разбитый кузов пылившего по ней грузовика, к центру, городок все желтел и зеленел, веселел, и небо над ним становилось все чище и голубее. Можно было улыбнуться с облегчением.
Этот городок-халва
Называется Хива.
К чести города Хивы,
Никакой в нем нет халвы.
Минареты над Хивой… —
и т. д., все падежи.
Вот когда я увидел первый минарет, то и небо вдруг сверкнуло чистым и глубоким цветом, словно осколок эмали вернул ему его идею и отражение осмысляет предмет. Так наконец мы проникли настолько внутрь города Хивы, что оказались в самой Хиве, той, что является ее красой и славой, той, что является Хивой для всех нехивинцев…
Мы прокатили вдоль стены городской крепости Ичан-Кала, повторяя ее вольные, как речные, изгибы. Стена эта очень красива и, полуразвалившаяся, имеет весьма почтенный и древний вид, хотя древней и не является. Вообще это было если не разочарование, то удивление: что древней, в нашем представлении, Хива отнюдь не является и основная часть заповедного архитектурного комплекса – это вторая половина XIX – начало XX века. Стена же – просто глиняная и тысячелетний вид приобрела почти что в наше время. Восстанавливать глиняный забор, не имеющий ценности архитектурного памятника, очень дорого, и однажды, скоро, она развалится навсегда – так оплывает под дождями и ветрами куча разрытой земли.
Примечательна Хива, оказывается, прежде всего не дряхлостью, а ценностью архитектурного комплекса, тем, что она не черепок, а горшок. В границах крепости Ичан-Кала Хива сохранилась как старый мусульманский город, каких теперь не бывает. Как быстро уходит время умершего: только что был – и нет его… Так, первое, что заслоняет взор при входе на территорию заповедника, – толстенная обрубленная труба недостроенного минарета. Она выглядит не менее древней, не менее небывалой, чем прочие медресе и мавзолеи. Это должен был быть самый высокий минарет Хивы и чуть ли не всего мусульманского Востока. Однако верхняя, внезапно обрезанная линия означала время – 1917 год.