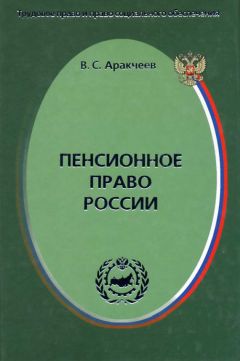Я написала тебе несколько слов, написала в каком-то жестоком исступлении, что ничего тебе не прощаю. Написала большое письмо Татьяне Сергеевне, в котором просила ее быть Татьянке лучшей матерью, чем была я, и еще просила у нее прощения за все зло, которое ей причинила. Оставила я коротенькую записку и своей маме. Они с Татьянкой накануне уехали в гости к маминой приятельнице и должны были вернуться через несколько дней. Я запечатала конверты, написав на каждом «лично». Наивная, я думала, что это слово запретит посторонним читать мои письма.
За окном рассветало. Я сидела на краешке дивана, который когда-то купил Алеша. Я сидела на краешке дивана, приготовившись к смерти как к чему-то необходимому, неизбежному, светлому. Другого конца я себе не мыслила. Я собралась уходить, а потом присела, как садятся перед дорогой. «Ну, все! – громко сказала я, вставая. – Все! Прости, Алеша! – Но дорогое имя не в силах было мне помочь. – Ты не смеешь произносить Алешино имя, не кощунствуй! – безразлично упрекнула я себя и тут же повторила: – Все, Алеша, все!» – и вышла из дому, даже, кажется, не оглянувшись…
На мне было черное гипюровое платье, твое любимое, и мамина черная теплая шаль. Было холодно, хотя и было уже семнадцатое мая. Воздух во дворе был голубой-голубой. На пороге дома я столкнулась с соседом, с тем стариком, у которого когда-то брала будильник.
– Ты куда, стрекоза, ни свет ни заря? – остановил он меня.
Я молчала.
– Лизавета, ты чего? – потянул он меня за шаль. – Больна, что ли?
Да, я, наверное, была больна, была очень и очень больна, хотя ни я сама себя, ни окружающие меня больной не считали, ведь у меня не было температуры. Мама, перед тем как уехать, сокрушалась: «Какой у тебя вид! Поставь градусник!» А когда я измерила температуру, успокоилась: «Слава богу, – сказала она, сама проверяя градусник, – температура у тебя нормальная».
И вот сейчас сосед Потапыч повторил то же самое:
– Куда ты? Ты совсем больная! Нет, ничего, – тронув меня за руку, успокоился он, – температура нормальная. Куда же ты?
Не помню, что я ответила ему, кажется, просто махнула рукой.
Я не знала, что так все обернется. Я спустилась к полотну железной дороги, в сторону моря, а любопытный старик смотрел мне вслед, как позже мне рассказывала мама. Смотрел вслед, озадаченный, как он всем потом говорил, моим каким-то пришибленным видом. Не успокоившись, он решил зайти к нам, спросить у мамы, что случилось, куда я отправилась и почему у меня такой странный вид. Он не знал, что мама с Татьянкой накануне уехали. Он зашел к нам в комнату (оказывается, я забыла закрыть двери на ключ), он зашел к нам в комнату и увидел на столе письма. Три запечатанных конверта, подписанных каждое «лично».
Старик поднял переполох. Я этого не знала.
Мне хотелось уйти подальше от города: вдруг опять встречу кого-нибудь из знакомых. Я решила это сделать на маленькой станции, что была в нескольких километрах от города, на той самой станции, куда я когда-то прибежала ночью, чтобы проститься с тобой, когда ты ехал защищать диссертацию. Когда я до нее дошла, из-за моря только-только показалось солнце и птицы так громко пели! «Солнце, птицы», – с удивлением подумала я и остановилась. Огляделась, но мне уже ничего не было жалко, просто было как-то непонятно: зачем восходит солнце, почему поют птицы?
Сотрясая землю, прошел тяжелый состав, и грохот его ударил мне в сердце: «Что я наделала? Зачем написала ему, что ничего не прощаю? Нет, нет, я ему все прощаю, все прощаю. Господи, ну как же ему это сказать? Господи, не могу же я умереть, не сказав ему этого!..»
Но вернуться домой я не могла. Уже была подведена та нравственная черта, за которую нельзя сделать и шагу. «Телефон, – подумала я, – где-нибудь здесь должен же быть телефон. Я скажу ему, что прощаю, услышу еще раз, услышу его голос – и все, тогда все!» Я проходила мимо гаража или другого какого-то учреждения. Ворота были открыты, двери помещения – тоже настежь. Уборщица собиралась мыть полы и пошла в соседний двор с ведром к крану, видневшемуся издалека. Я прошла быстро во двор, вошла в контору. На первом же столе чернел телефон. Обыкновенно с этой станции очень трудно дозвониться в город. А тут я назвала номер и сразу попала к вам в квартиру. Трубку взяли вы.
– Я вам все, все прощаю! – заторопилась я.
– Лиза? Где вы, откуда вы звоните?! – закричали вы. – Лиза, сейчас же идите домой, что вы задумали, безумная девчонка! Сию же минуту идите домой! Где вы, где вы? Да ответьте же мне наконец! – Вы так кричали, что трубка дрожала и стонала. Я не знала, что в руках вы уже держали мое прощальное письмо. – Лиза! – кричали вы.
Мне стало страшно, мне показалось, что вы видите меня в трубку, как я стою, откуда звоню. Мне показалось, что вот сейчас вы меня схватите и мне снова придется вернуться к этой постылой, невозможной теперь для меня жизни.
Бросив трубку, я пустилась бежать. Я бежала, бежала все дальше от этого города, от станции, от всякого жилья, от людей, бежала и бежала. Бежала по степи, по желтому полю сурепки, по полю сиреневому, заросшему молодым, еще не колючим татарником с нежными сиреневыми щеточками цветов… И город, и станция, и все живое остались далеко-далеко позади, а за мной, настигая меня, несся ваш голос:
– Вернись, глупая! – Я так долго бежала, что свет стал меркнуть в моих глазах, поле передо мною становилось то черным, то красным, то черным, то красным.
Я бежала вдоль насыпи железной дороги. Вдали, на излучине, показался поезд. «Только бы не остаться живой, только бы не остаться калекой!» Я плотно запахнулась в шаль и вытянулась вдоль рельсов. Мне казалось, что если я лягу поперек, то останусь калекой: отрежет руку или ногу, и все, а так… Я вытянулась вдоль рельсов… Все поглотил железный грохот…
…Куст белых, обрызганных мазутом ромашек, изломанный, но живой, чуть колеблющийся от ветра куст – увидела и подумала: «Значит, и за гробом цветут ромашки». Подумала и широко-широко открыла глаза. Небо, синее, синее небо без конца и края, со всех сторон окружало меня небо! Радость, не испытанная мною радость затопила меня! А потом волна страха, животного, холодного, липкого страха: я лежала между рельсами, и не было у меня сил подняться. И не было никого вокруг, кто мог бы мне помочь подняться, каждую секунду мог показаться новый поезд. Я лежала беспомощная между рельсами и уже не хотела умирать, но не могла подняться, словно я навечно была приклеена к этим серым, резко пахнущим мазутом шпалам. Поверь, это было страшнее, чем когда я сама ринулась навстречу смерти. Не знаю почему, не знаю, как я осталась жива. Прошел ли поезд надо мною, или в смятенье я легла на рельсы рядом, рядом с теми, по которым прогрохотал состав (пути там двухколейные)? Мама говорила, что шаль моя была вся в мазуте и на ней несколько прожженных дырочек от искр или упавших с топки паровоза углей. Не знаю, как было на самом деле. Для меня самой это навсегда осталось загадкой.
Только одно мне ясно: человек, поднявший руку на жизнь, – преступник, такой преступник, которому нет на человеческом языке названия.
Благословенна жизнь! Будь проклята любовь, такая любовь, которая не дарует, а отнимает у человека жизнь! Теперь ты понимаешь, почему я прокляла свою к тебе любовь, и мама с восторгом передала тебе мои слова.
Тогда я сползла все-таки с рельсов и повалилась с откоса в траву, снова потеряв сознание. Очнулась я от свежести и еще от чего-то шершавого, теплого, толкавшего мои руки. Было очень холодно, снова почему-то всходило солнце. Степь была фиолетовой. Вокруг меня топтались барашки, и одна из них лизала мне руки. Рядом сидела лохматая собака, и два человека что-то говорили между собой на незнакомом мне языке. Оказывается, на меня наткнулись чабаны с отарой овец, что шли с зимних пастбищ в горы. Они-то и доставили меня в больницу.
У меня отнялся язык. Вы знаете, какое у меня было сильное нервное потрясение. Я не хотела видеть ни вас, ни Татьяну Сергеевну. Я просила маму взять меня из больницы домой, но врачи не разрешали. Я так боялась, что откроется дверь и войдете вы или Татьяна Сергеевна и начнется все сначала, а у меня так мало сил. Но ни вы, ни Татьяна Сергеевна не торопились меня увидеть.
Я узнала позже, что этот глупый старик-сосед поднял такой шум, позвал милицию, вызвал срочно маму, добился, чтобы выделили спасательный катер, который в поисках меня курсировал вдоль берега. Мама тут же приехала на попутной машине и так кричала, так срамила, как она говорит, вас. Бедный! Воображаю, чего вы натерпелись. Оказывается, вас таскали в милицию, вызывали в обком, везде с вас снимали допросы, требовали объяснений. Это с вашей-то гордостью и нелюбовью пускать людей в свои дела. И тогда, не знаю где, кажется, в горкоме, вы назвали меня шантажисткой. Господи, это я-то шантажистка! Ну как же мне было не смеяться? И я смеялась. Смеялась над мечтой и преданностью, смеялась над собой и вами, которого сделала своим богом. Ведь только перейдя грань страдания, я хотела уйти из жизни ради вас, унося с собой вас, а вы – шантажистка. Ну как же тут было не смеяться? И я смеялась, но смех был горше слез.