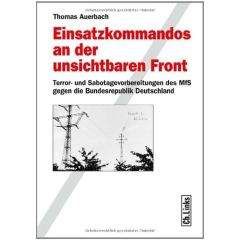Сумякин разулыбался:
– У моей их две таких, а ей ридикюль в башку втемяшился. А я ж деньги не печатаю, тут с аванса за жакетку с портнихой еле расплатились, так теперь ридикюль. Ну и пристала как банный лист: поспрошай на базе, может, кто из мужиков таблетку-то купит? Взял, чтоб отвязалась, а как спрашивать? Засмеют же. А тут ты. Дай, думаю, предложу? Чем черт не шутит? Бери-бери, бабы, они от шмотья добреют, точно говорю. Ну?
Бархатный бок лег в ладонь уверенно, по-кошачьи, хитро подмигнул в дымном сумраке перламутровый жемчужный глаз. Дядька мой Анатолий хэкнул, будто остограммился, и пощупал карман на пиджаке: вот ведь зараза, аккурат к получке подгадал. Сумякин понял, встряхнул ватник на гвозде. Там призывно булькнуло.
– Вспрыснем покупочку, нельзя же! Ну, чтоб носилось!..
От гаража до сортировки, вдоль складов и дальше, к проходной, гасли фонари, один за одним. Над темной базой проклюнулись звезды, выплыла было заспанная луна, но на ветру иззябла и завернулась в тучу. Мерзлой дымкой прихватило звезды, и они завязли, как в студне, разом потускнев. Начиналась метель.
* * *
Свекровь, тетя Катя, захлопнула форточку, поежилась:
– Темнотища. Ноги ломит, снег, что ль, пойдет? А Тольке-то пора бы уж. Долго он сегодня. Господи, хоть бы получку-то донес. Беда с ними, с мужиками. Людк, кастрюлю выключи, чего ей зря кипеть.
Люда погасила конфорку, как свечу задула: пламя шарахнулось к стене и пропало. Валя, склонившись над столом, долепливала наскоро пельмени. Руки летали, и на припыленную мукой доску рядами укладывались аккуратные – один к одному – тестяные ушки. Три таких доски под полотенцами уже вынесли на балкон – морозить. Людмила залюбовалась:
– Ну ты ж и мастерица, Валечка. Училась где или так, сама дошла?
– Тетка научила, мамина сестра. Я у нее в деревне как-то, девкой еще, зиму прожила. Ангины меня тогда замотали, ноги не таскала. А в городе какое лечение? После войны-то, известно, голодуха. А у тетки там баня, печка русская на полдома. Вот так напарит меня да салом бараньим разотрет. И отошла вроде, с тех пор и не болею. А по субботам мы с ней пельмени затевали, то с капустой, то на картохе. В хорошие дни с рыбкой. Вот и научилась.
– Ой, прелесть какая! Банька, печка, деревенька… Все-таки правду говорят: кому тесто удается, у того на душе мир и покой. Вот и тетя какая славная. Наверное, учительница?
– Ведьма.
Валя одним махом сгребла обрезки теста, сжала в ком и бухнула его о столешницу. Потом махнула подбородком на тесак:
– Брось-ка в раковину, мешает.
Люда потянула нож на себя, сжала ладошками обмотанную изолентой рукоятку.
– А как это – ведьма?
– На любовь привораживала, могла и от этого дела, – Валя щелкнула себя по кадыку, оставив мучной след на шее, – отвадить. Или вот, если кому разлучницу извести, тоже помогала.
Людмила прижала нож к груди, побледнела.
– А разлучницу – это как?
– Как-как. Косынку, например, ей подсунет. На крыльцо бросит или там, скажем, в карман где в суматохе приткнет. Та развернет, а в косынке – булавка наговоренная. Уколется баба, и найдет на нее пустотка.
– А что это?
Валя обвела взглядом налитую фигуру соседки, прищурилась:
– Да то и есть: худеть начнет. Титьки, щеки, бока, задница – все за неделю на нет сойдет, мешком повиснет. Ты с ножом-то осторожнее, острый. Вчера Толька наточил.
Звякнул об пол тесак. Из ванной вышла свекровь, зевнула, перекрестила рот. Глядя на нож, хмыкнула:
– Мужик придет. Только че-т в кровище. Уж не Толька ли по пьяни подрался?
Наклонилась, сплюнула и трижды постучала рукояткой об пол. В дверь позвонили.
Дядька мой Анатолий переступил порог, волоча на себе Сумякина. Тот был весел, пшеничные усы в инее, ватник нараспашку. К щеке мойвин хвост присох, шляпа-таблетка набекрень не без лихости, на ухе вуаль, вся в кокетливых бархатных мушках. Люда тихо ойкнула, Сумякин рыгнул, отсалютовал даме шляпой на резинке и рухнул на пол. Толя утер лоб.
Ночевали хорошо. Механика под шумок уволокла к себе Людмила, свекровь не спала вовсе: примеряла шляпку, прикладывала вуалетку, снова убирала, поворачивалась в профиль и счастливо улыбалась зеркалу. В спальне Валя упрятала в комод между наволочками целехонькую дядькину зарплату, вздохнула.
– Голодный? Там кран сломался, ты завтра почини. Пойдем, солью тебе на руки хоть вон из ковша.
Дверь за супругами закрылась, зашумела в раковине вода. И шумела долго, ой, долго. В кухне подсыхали на столе пельмени, метель кончилась, глянула в окошко луна. Из темной прихожей ей подмигнула забытая всеми шляпная булавка с перламутровым отливом. И пришла ночь.
Казенный выходной продрал глаза к полудню, когда стеклянный заморозок лопнул, как градусник, и истек ртутью в подвальные отдушины. Углы, тротуары и улицы поддернули тени, как подолы, отмякли и вытянулись вдоль предместья под ватной оттепелью во весь рост. Люди просыпались. Полетели куры из-под ног, заскакали в сенях и на верандах крышки с огуречных банок, и, будто стая сизарей, заворковал, загулил в сотне глоток разом ядреный – не продыхнуть – укропный с чесночком рассол. Кот, нехристь чердачная, шуганул голубей, те сбились в ком, в моток почтового шпагата, прокатились по пыли к окну. И вот – хлопот крыльев, и из расцарапанного неба в самое небо – счастливая одышка: хорошо!
Свернул в переулок к гастроному припозднившийся хлебный фургон, амбарными замками нацелились друг в дружку хмурые, под засовами, «Почта» и «Парикмахерская». Из-за угла с оглядкой шмыгнул ручей, цапнул с бордюра листовку – «Горожан с Днем города!», крутнул в воронке у столба и утянул под решетку. Стекольщик Амбастиков вдогонку ему отжал из мочалки мыльные хлопья и прошелся еще раз, насухо, по вывеске – «Стекольная фирма „Лицензия“. Трезвые мастера всегда!» Полюбовался буквами, дыхнул на восклицательный, как сержанту в тестер, полирнул локтем и запер, наконец, контору. Праздник начался.
А на другом конце города, пока пригородный автобус раздавал багаж заспанным приезжим, от вокзала отошло такси с пассажиром. Неприметная «шестерочка», каких много. Разве что крышка у багажника не закрывалась, хлопала на ходу. Очень уж груз попался негабаритный – ящик лимонов. Таксист накрутил лишнего километража заезжему лоху, потому был благодушен и желал общаться:
– Откуда сам-то?
– Родился здесь, а еду с Бодайбо.
Водила крякнул, приготовился скинуть цену на четверть – фора на знание города.
– Так то ж север! Чего ж ты оттуда лимоны пер? Они там у вас золотые, не иначе.
– Не, это с югов, с Сочи. Бригадир отдыхал, вот привез. А я их матери, она тут живет.
Пассажир притих, поерзал на сиденье, распустил из-под кожаного пальто потный настой и вдруг улыбнулся, заплыли азиатские глаза в скулах-яблоках – поди разбери, казах он или татарин:
– Любит, с чаем-то. Сахару набуровит, лимонов кружка два ложкой надавит, с кипятком. Заварки еще нафигачит, аж горло дерет. А ей ниче, пьет. Нравится. А тут пишет: помирать собралась. Пора, дескать, зажилась. Вот веришь – нет: неделю маялся. Чего напишешь-то? А тут – лимоны. Ну и вступило в мозги: думаю, дай, привезу, бухну ящик на пол: на, мать, к чаю тебе. И пока не проешь, помирать не вздумай. Деньги, дескать, плачены. Там вон, за аптекой, поверни, по правой дороге поедем. Короче выйдет.
Таксист вздохнул, скинул еще полтинник. Городская застава дыхнула в опущенные окна «шестерки» валидолом с аптечных складов и скрылась в пыли. Впереди шустро бежало в мощеную горку деревянное предместье.
– Хоронили, что ль, кого? – Колесо вильнуло, прыгнуло на кирпиче, объезжая цепочку крупных, в кулак, садовых бархатцев. Пассажир пожал плечами, не взглянув. Он все засматривал по зеркалам на багажник, угадывал под крышкой, что ходила ходуном, глянцевый лимонный лоск и улыбался.
– Поднажми, а? Сотку накину!
Таксист поднажал. Бархатцы тоже подбавили: вровень с «шестеркой», то и дело виляя с утоптанного пустыря на мостовую, бежали уже два рыжих потока. Казах-татарин перестал чесать подмышки, позабыв руку под пальто. От лба к подбородку и дальше в ворот плаща потекла желтоватая, как лимонная изнанка, бледность. Цветочная дорожка споткнулась о забытую Амбастиковым стремянку, сладко притерлась к порожку винно-водочного «Эдема», обогнула вместе с канализационным ручьем фонарный столб и шарахнулась от дороги прямо под ворота дома номер восемь-А. Таксист коротко глянул на пассажира и, ни о чем не спрашивая, мягко причалил туда же. Из распахнутого на втором этаже окна рвался наружу тяжкий девичий вой. Кожаный приезжий на циркульных ногах пошел к калитке, бухнул кулаками в доски и пропал во дворе. Водила потоптался, достал из багажника ящик с лимонами, поставил у ворот. Пошел было прочь, вернулся, носком ботинка аккуратно двинул угол поровнее, крякнул и уже в «шестерке» газанул, сжигая сцепление, будто боялся: калитка дрогнет, и его окликнут.