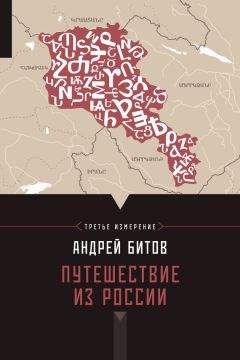Это был классический «маяк» – я еще классических не видел, – мне любопытно было взглянуть на миф воочию. Я был настроен скептически. Но я и не предполагал, насколько я не прав!.. Те же поля по сторонам, пустые и некрасивые… За машиной гналась стена пыли. В который раз защемило сердце, будто, отлетев от своей любви на несколько тысяч километров, я снова уезжал от нее, еще дальше километров на двадцать, еще невозвратней… Я удалялся теперь от почтамта, вдоль дороги скучно повторялись телефонные столбы – я так вчера и не услышал ее по этой проволоке: скрип, треск, нет дома, не туда попал… Мы свернули в поле и уперлись в забор. Отомкнув сплошные ворота, мы попали в огороженную жизнь: тут было зелено и прохладно. Журчал арык, над дорожкой, красно посыпанной битым кирпичом, на ажурной решеточке вился виноград, образуя нам тень. Перед правлением колхоза, под навесиком, на топчанах сидели темнои простолицые дехкане и пили свой кок-чай без лепешки – род чайханы-ожидальни. Они внимательно, но не пристально смотрели на нас, не отрываясь и как-то в то же время не разглядывая. Негудбаев спросил – нам показали куда.
Это здание мне не удавалось истолковать… Оно начиналось как бы служебным помещением, конторой, дежурностью и бедностью обстановки; потом становилось как бы отдельными кабинетиками, с канцелярской обстановкой возрастающей ценности хранения, – и вдруг вы оказывались в пышной домашней обстановке, в каком-то еще более внутреннем и более фруктовом дворе, среди ковров и трав, под сенью застекленных и распахнутых настежь террас, где солнышко, проходя сквозь фильтры листвы, преломившись в плоскостях террасных надраенных стеклышек, нисходило уже свеженьким и прохладным, для подчеркивания чистоты, надраенности и отскобленности всего этого постепенно и плавно возросшего, начиная с убогой конторы: полов, перешедших в паркеты, и окон, развившихся в витражи, радиоточек, увеличившихся до цветных телевизоров, и марлевых занавесочек, эволюционировавших в знаменитое искусство ковроткачества.
Нас не ждали. Высокий полный человек торопливо поднялся от доски с нардами, от маленького и худенького своего партнера, замершего в этот миг во времени, – поднялся к нам и смутился. Был он бос, в галифе, из-под майки стекали белые пухлые плечи. Они обрадовались с Негудбаевым друг другу, и мы были представлены. Некий микроскопический кивок нашего хозяина пробудил во времени его партнера в нарды, и тот тоже был представлен как секретарь ячейки. Торопливо и скромно подав нам сухую, нежмущую ладошку, он исчез.
Мы стояли на открытой террасе, лицом в сад, имея справа и слева еще по большой террасе-комнате. Мы стояли около правой, левая была вдали, как бы на вытянутой руке.
Там сидели в кружок женщины на таком расстоянии, что нельзя было отличить старую от молодой. Насколько можно было судить, наше появление было ими никак не отмечено, и тем не менее хозяин тут же проводил нас – три ступеньки вверх – на правую, «мужскую», террасу, и двери за нами закрылись. Оставив туфли у ступенек, неуверенно ступая по толстому ковру, я оказался в той обстановке, где не было места обуви и женщинам…
Пока я приобщал сервант к телевизору, а ковры и пуфики к четырем красным пятиконечным крупным звездам, старательно и самодеятельно нарисованным в углах потолка, – хозяин обулся в носки и надел подходящий к галифе френч «Утро нашей Родины». Я представил его себе выходящим ранним утром, с образцовым восходом на фоне, на хлопковые его нивы – он вписывался, он сошел с картины, тот самый, у нас уже забытый, образец формы руководителя, сохранившийся в Азии, на всякий случай, до сегодняшнего дня. Господи! ведь всякий пейзаж – существует! – даже такой, в который я и не верил никогда, что он есть, который представлялся мне фантастическим уже в силу убожества художественного воображения живописца, – так этот пейзаж тем более есть: вот он, – природа предусмотрела все, любой прообраз…
И пейзаж его лица напоминал то некрасивое, но полезное, много рожавшее поле. Лицо его было отечно, бледно, изрыто, устало. Он был раздражен усталостью: к сегодняшнему дню наука была наконец пройдена. С наукой было покончено, начиналась степень кандидата – и это еще не отступившее напряжение, но и не подвластное уже расслабление, эта одновременность усталости лежала в ямках его изрытого лица тенями власти и раздражительности. Все это, однако, можно было лишь заподозрить, но не доказать: по европейским нормам он держался прекрасно и любезно, по восточным – был вне себя, возможно.
Ему, как говорится, только нас сегодня не хватало. И если с Негудбаевым у него еще были тайные для меня, за языковым барьером, темы, то я был не годен для употребления, и он не мог примирить мой вид с моим мандатом – он не верил, он был умный человек.
Вернулся секретарь, партнер по нардам, внес кок-чай и лепешку – тут хоть появилось занятие, ритуал, всем стало более по себе: ополаскивание пиалы, обряд преломления лепешки…
Как описать то впечатление ума, которое произвел на меня хозяин? Это был ум, в котором я не имел опыта и ничего не понимал. Это был ум, имевший силу и не имевший родства с моим. Другой ум для него не существовал и потому был непонятен, или наоборот. Он упрочался в своем уме. Он был скрыт от меня: он был за френчем до верхней пуговицы, за сонным падением опухших век, он был за взглядом, то длинным, то коротким, который каждый раз устанавливал новую связь для себя, что можно было заметить по стремительному удлинению, как уколу, и внезапному укорочению, захлопнутости, усталому опусканию век – выводу. Взгляд этот не выдавал себя никакой эмоцией, он выдавал себя – силой. Силой того, что тебя видят только так, как видят, не иначе, силой окончательности и резкости видения в собственном лишь представлении. Обжалованию не подлежало. Я представил себе крепость его правления, оправданного выгодой государства и пользой среднестатистического труженика, и поежился. Цели его были мне неясны, но те, которые я мог представить, были лишь средствами еще одной его цели. Все то, что я у других считал за цели, тут было лишь средством: и польза, и выгода, и кандидатская степень. Вот, подумал я, человек, для которого средством является то, что для других является целью, – он и занимает более высокое положение, так правильно. И неизвестна никогда цель вышестоящего нижестоящему, понять ее – это пройти к ним. Это было для меня за семью печатями, и я занялся более легкими и более пластическими наблюдениями: за медленным и плавным развитием стола, зарождением пира…
Сначала не было ничего, и не известно, что было с этим делать, я не был посвящен в тайну предстоящего времени, – можно было подумать, что так и надо: посидим, поговорят еще хозяин с Негудбаевым, и пойдем. И был кок-чай, и была лепешка, час второй. Можно было подумать, что это все: чай для вежливости попьем – и домой. Сколько хотел хозяин про меня понять, столько он уже понял; сколько я мог про него понять, я тоже понял; с Негудбаевым же они давно знакомы. Но тут появлялся секретарь и вносил редис и лук, час третий. Это было, по-видимому, к лепешке, я укусил редиску, но оказался в этом одинок. Снова появлялся секретарь – после него около ножки стола остался стоять армянский коньяк и боржоми. Хозяин бровью не повел, и мы не повели: стоит себе и стоит около ножки, никому не мешает – бывает…
Каждый раз время замирало так надолго, что казалось, столько, сколько в него поместилось, – поместилось уже навсегда. Тут-то и намечалось небольшое прибавление, намек на развитие, и опять все замирало навсегда. Я не мог обнаружить логики и связи, потому что существовал в своем, быстротекущем времени, а на скорости, свойственной этой террасе, все процессы, имеющие для меня логику, замирали, прерывались и переставали существовать И вот, когда я совсем уже переставал понимать, чего мы ждем, – входило дымящееся, волшебное, тугое облако, райский аромат: вплывало огромное блюдо, за ним, откинувшись всем корпусом назад, чуть видимый из-за дымящейся горы, с дрожащим, как мираж, за горячей завесой испарений лицом, – секретарь в носочках. И был то плов – венец творения. И сказал Господь: хорошо.
На место стали и редис, и лук, и коньяк. И мы. И входил новый гость…
Он являл некую противоположность глиняной суровости нашего хозяина – такой лощеный, элегантный, с лысиной на пробор, похожий на министра внутренних дел какого-нибудь красивого шаха. Это был сосед, председатель соседнего колхоза; тоже заехал поздравить с защитой. Провозгласили – чокнулись. Но этого было мало – вот что оказалось: он заехал поздравить своего друга – то-то такой нарядный! – прямо с церемонии торжественного вручения ему ордена Октябрьской Революции. Не может быть! Столько радостных событий! У разных людей! Одновременно! Я бы не поверил. Но вот они, эти глаза, которые были тому свидетелем. Наш гость скромно принял наши поздравления. Вот что стало в связи с этим предметом нашего обсуждения, в которое сочли возможным посвятить и меня: почему так вышло, что только и всего лишь Октябрьской Революции, а не Героя. Ведь должен же был наш друг получить его, был представлен!.. Оказалось, в последний момент по области сократили число присуждений и трех Героев срезали, а то была бы Звезда. Да… – покивали, посокрушались мы.