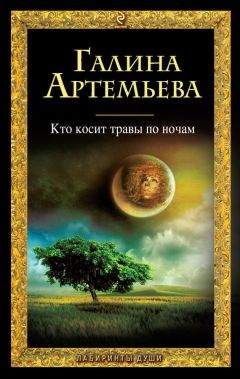Личная жизнь тоже наладилась стремительно. Пришла настоящая любовь. Даже с замужеством, кольцами и питерской пропиской. Правда, в коммуналке. Но, извините, не все же сразу. Вот они с мужем друг друга любили-любили, ходили по музеям и проспектам города, любовались Невой и Адмиралтейством, Ростральными колоннами и сфинксами на набережной, целовались-обнимались в своей законной десятиметровой комнатище, и результат проявился незамедлительно: образовался ребенок. Они оба сначала здорово испугались. Сериалов-то всяких мексикано-аргентинских тогда и в помине у нас не было. Никому и в голову не приходило, что вот появится ребенок, и все начнут прямо с ума сходить от счастья, отец будет заламывать руки и кричать: «Я никогда не отдам тебе моего любимого Хуана-Антонио!» Или тут же согласится жениться, как только узнает, что от него забеременела какая-нибудь Лорена или Эстелла. У нас с этим было как-то проще и спокойнее: не вовремя зародыш образовался – пожалуйте к врачу. Все будет сделано в лучшем виде – в подобающих антисанитарных условиях, с гарантией бесплодия на всю оставшуюся жизнь.
Все бы и ничего, но перспектива дальнейшего бесплодия некоторых смущала. Наученные любить светлое будущее, некоторые боялись появиться в нем неполноценными особями. И соглашались рожать в неустойчивом настоящем. Так вот и наша девушка вынуждена была несколько изменить свои планы и родить не после получения диплома, а до. И ничего. Даже академ не брала. Родила мальчика, сдала сессию. Все как надо. Все правильно, без отклонений. Зажили они теперь в комнатухе втроем, тоже вполне ничего. Была надежда даже расшириться, в смысле жилплощади: сосед-алкаш уже доходил до таких порогов белой горячки, после которых возврат к жизни часто весьма проблематичен. Три остальные комнатенции представлялись тоже, так сказать, перспективными: их занимали старушки вполне, казалось бы, несовместимого с жизнью возраста. Так что перспективы были ясны.
Ребенок рос и улыбался всем подряд. Ему нравилось на этом свете. Что бывает лучше, он не знал и вполне довольствовался тем, что имел.
Через несколько годков его младенческого существования задул над страной западный ветер. Все как проснулись от долгого сна: стали со страшной силой стыдиться своей жизни, своего прошлого и настоящего. Признали себя банкротами. С жадностью слушали рассказы тех, кто побывал там, откуда ветер дует. Проклинали все вокруг, включая самих себя. Образно выражаясь, вовсю раскачивали корабль, на котором плыли, вместо того чтоб без истерик выгребать на глубокую воду и плыть себе дальше по воле волн. Радовались кораблекрушению. Принялись растаскивать обломки и обустраиваться на них. Романтические настроения смыло набежавшей волной. Каждый стал сам за себя. Правду сказать, оно и раньше так было, только тогда люди отчего-то стеснялись так конкретно формулировать и выражались на эту же самую тему более расплывчато: «Один за всех, а все за одного».
Именно в этот интересный во всех отношениях период что-то стало твориться неладное с отцом ребенка. То он куда-то ночами пропадал. То, напротив, был на виду: в предельно загаженной комнате на диво живучего соседа-алкаша, с которым почему-то у него возникли и развились общие интересы. Маме мальчика сделалось очень страшно жить в связи с изменениями, произошедшими с некогда надежным спутником жизни. Когда он пропадал, ей виделись всякие страсти-мордасти: несчастные случаи, грабежи, избиения, сердечные припадки, внезапная потеря памяти, похищения, наконец. Она ночами мечтала и молилась, не зная кому, ибо была образованным и неверующим человеком, о том, чтобы с мужем ничего не случилось, чтоб он возвратился домой целым и невредимым. И молитвы доходили (неизвестно до кого): он всегда возвращался, бывало, без денег, без документов, даже, бывало, совсем раздетый, в одних носках, подумать только! Но возвращался к родному очагу. К самым, по его же словам, дорогим для него людям.
Когда же он заседал у соседа, страхи почему-то тоже не отступали: уж очень они – сосед с мужем – зверели. Грозились раздолбать всех и вся, расхерачить все сверху донизу, крест-накрест, по периметру, по окружности и в равных долях. Особенно доставалось правительству страны, депутатам, делегатам, членским билетам и мандатам. Но все вышеперечисленные, хоть и обложенные с ног до головы толстыми слоями народного признания и любви, пребывали в спасительном далеке. Поблизости же кочевряжились три старухи-скелетухи и никчемная баба с никчемным мальцом, которым, за неимением доступа к верхам, и доставалось в первую очередь по первое число от униженных и оскорбленных свинцовыми мерзостями жизни мужчин.
Сначала женщина-мать дала себе слово терпеть во что бы то ни стало. У мальчика же должен был быть отец. Все эти временные странности поведения вполне можно было объяснить объективными причинами: не всем удалось перестроиться по приказу свыше. Некоторые растерялись. Не сообразили, в какую сторону перестраиваться. И заметались, как Нева в своей постели беспокойной. Она уверена была, что должна терпеть и перетерпит, и получит заслуженное счастье на десерт. К этому времени некоторые мечты (художница-передвижница, Русский музей, Третьяковка, мировая слава) были приостановлены на неопределенный срок. Она устроилась работать по специальности, то есть учителем рисования. За ничтожнейшую зарплату. Но у этой работы были плюсы. Она могла брать с собой мальчика. На детский сад денег у нее категорически не было. Во время уроков ребенок тихо сидел на задней парте и рисовал вместе со всеми. Она его видела, и это давало ей силы жить: выдерживать бестолковый детский шум, бессмысленность своего предмета в том виде, как он преподносился программой, и многое другое, сопутствующее жизни учителя. Опять же, если перечислять плюсы – были длинные школьные каникулы летом, вполне приличный зимний передых и два греющих душу коротких – осенью и весной. Во время каникул можно было поехать в пионерлагерь вожатой на все готовое плюс какие-никакие, а деньги. Но деньги все больше мельчали, теряли свое первоначальное значение, это пугало больше всего.
Она была не просто задавлена бедностью, как некогда выразился один литературный персонаж, ее земляк, по воле знаменитого на весь мир автора. Она была этой бедностью скручена в бараний рог, прибита и утрамбована в городской заблеванный асфальт.
Чем они тогда жили? Что они ели? По утрам – овсянку или манку на воде. Овсянка почему-то в те добрые времена содержала в себе очень активных и вонючих жуков. Ее надо было сначала залить кипятком. Тогда жуки обжигались и тонули. Потом их трупы всплывали на поверхность. Их нужно было слить в раковину. Потом снова налить воды и варить кашу пару минут. Ничего получалось. Особенно когда был сахар. Днем ребенок питался в школе, пока школьные завтраки не отменили. На ужин картошка, хлеб. Кефир, молоко – если удавалось купить. Соль. Чай. Постное масло. Как-то жили. За комнату надо было платить. За проезд. Иногда требовалась одежда. Ребенок же рос, несмотря на действия партии и правительства и указания сверху. Не так страшно, что вверх тянулся: штаны и рубашки можно было еще долго надставлять чем придется. Катастрофа происходила с ногами: обувь ни удлинить, ни расширить еще ни одной матери, даже самой экономной и самозабвенной, не удавалось.
Что их спасло тогда? Хотите верьте, хотите нет – они выжили любовью друг к другу, чесслово! Просто возвращались домой по серому-серому городу, подходили к серой-серой Сенной площади, пробирались по своему серому-серому переулку по серой-серой грязи, видели свой серый-серый дом с бледно-желтыми проплешинами, поднимались по невыносимо воняющей кошачье-собачье-человеческими экскрементами лестнице, отпирали свою непонятно какого рожна запертую дверь и оказывались в отдельной от всего мира зоне – вне политики, гласности, демократии, тоталитаризма, интересов народа, памяти жертв и проклятий палачам. Они – мама и мальчик – рисовали друг другу сказки. Они заводили пластинки на старом проигрывателе и подпевали любимым певцам.
– Если бы тебя не было, и я не могла бы существовать, – напевала женщина слова песни Джо Дассена, обращаясь к семилетнему мальчику. Она не понимала по-французски, просто копировала звуки, но знала, что так можно петь только о любви, о той прекрасной, единственной, бесконечной, бездонной любви, подаренной ей материнством.
– Если бы тебя не было, и я не мог бы существовать! – присоединялся к женскому голосу детский мальчишеский голосок, объясняясь в любви к своей самой прекрасной, самой нежной, самой необходимой.
Песен они знали очень много. Для рисования достаточно было любого куска плоской поверхности и любого инструмента – от карандаша до попавшейся под руку вилки. Для любви не требовалось ничего материального вообще. Воздух, чтоб вдыхать, глаза, чтоб смотреть, губы, чтоб улыбаться и целовать, руки, чтоб обнимать и прижимать к себе.