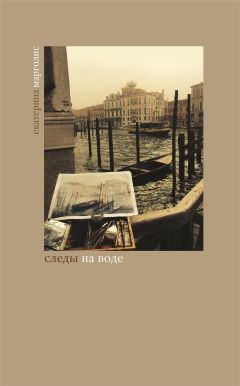– Ты по Франческо пришла?
Я кивнула.
И снова заплакала.
– Я сразу поняла, что ты к нему… – Она осеклась, не найдя подходящего глагола. – Я не медсестра – я тут просто нянечка, обслуживающий персонал. Он у нас много месяцев провел, и я его хорошо узнала. У нас было хорошо, мне кажется, – продолжала она. – А потом резко так ему поплохело. А до этого он все на разных инструментах играл. Все просил ему прино-сить инструменты…
Я вслушивалась в ее простую певучую речь, пытаясь угадать, что же он играл. Своего ли буранского соотечественника островитянина Галуппи? Венецианские рыбацкие песни? Или что-то другое?
Руки теребили завязки от сумки. Пальцы нащупали внутри какую-то книгу, и я неожиданно вспомнила, что в сумке – каталог последней детской выставки «Видимо-невидимо». Большие маленькие художники со страшными диагнозами. Детские лысые головки и россыпь цвета, света, радости…
– Я… понимаю… немножко знаю, давно в этом живу… Но вот так судьбе было угодно горько обойтись… Старалась помочь, но жила не свои истории, что ли… Совсем ничего не знаю. Держите. Это вам.
Я протянула каталог.
Тележка по-прежнему наполовину в лифте, наполовину снаружи, дверь лифта с грохотом елозит туда-сюда, словно спеша заглотить и пережевать своих пассажиров.
Нянечка раскрыла каталог и всплеснула руками:
– Боже, как красиво. Неужели это дети? Больные раком?
– Да, – говорю, – это каждый раз потрясает, когда все невозможности в человеке идут вдруг в красоту, – и наступает что-то другое… Может, преображение?
Она повернулась и решительно скомандовала:
– Ты должна его сама передать заведующей. Давай с тобой поднимемся еще раз.
Мне совсем не хотелось возвращаться, но сил возражать не было, и я подчинилась.
Поднялись. Я робела. Нянечка провела меня в кабинет к той же медсестре, которая подняла глаза, оторвавшись от каких-то записей, и смерила меня удивленно-суровым взглядом. За окном садилось солнце. Дул тяжелый пыльный ветер.
Я пролепетала что-то – и протянула каталог. Она стала листать – и преобразилась. Посмотрела на меня:
– Это так красиво! Прости меня… Ты ведь понимаешь – privacy – и все такое – мы не должны. Не можем. Но я сразу догадалась, по кому ты пришла…
Нянечка вторит:
– И я.
– Знаешь, – продолжила медсестра, – давай я запишу твой телефон и оставлю в каталоге тут – это такая красота необыкновенная. Ты позвони тоже нам на будущей неделе.
– Спасибо… Если бы я что-то могла – ну, если кому-то нужно… ну, рисовать… если это возможно в принципе… Я обещаю ни о чем не расспрашивать. Просто, понимаете, одно дело быть по ту сторону, а другое – оказаться по эту.
Она радостно заулыбалась:
– Умница. Именно так. По разные стороны. Позвони на следующей неделе или когда сможешь – наша заведующая выйдет из отпуска… И возвращайся. Обязательно.
– Спасибо вам огромное. Вы мне очень помогли. Я вернусь, если можно, если разрешат. Я позвоню. Вдруг, правда… Не прямо сейчас. Но, может быть, я смогу вам быть чем-то полезной…
– Да что вы, это вам спасибо. Мы будем ждать.
И она снова принялась листать каталог и рассматривать картинки и детские фотографии.
– Неужели дети сами рисовали? – всплескивали они поочередно руками – В хосписе? В больнице?
– Всюду.
Дверцы, пластик. Линолеум. Я почти задыхалась. Скорее на улицу, на жару и ветер, к воде, на набережную…
И вслед стрелой пронзила мысль: «А он? Как же ему хотелось наружу, на воздух, к морю… Сколько месяцев тут? Девять. Боже мой, почему?»
Как жить с этим обратным сроком и знать, что можно было хоть каждый день приходить в ту самую больницу, у дверей которой наши пути пересеклись впервые и уже навсегда, а затем в хоспис… и это могли быть наши – единственные – самые главные дни. Да, не заслужила.
А ему-то за что? Да не будет тебе этого. Там, в этом хосписе-шкафу. Теперь это уже неотменимо. Ни живого разговора, ни шереховатости, ни моря, ни лодки… Все гладко. Шкаф и шкаф, – я ускоряла шаг, почему-то все больше сосредотачивалась на деталях.
– Сама всегда была сторонницей хосписов, – возражал внутренний голос. – Для других, что ли?
– Да нет, – оправдывалась я перед собой прежней, – хосписы благословение стольких последних дней. Но – что врать – я не могу смириться. Это не его место. Все во мне восстает против этого.
– Зато там за ним был хороший уход, – продолжал упрямо гнуть свое внутренний голос то ли кузины, то ли нянечки…
– Хороший уход… Уход… Хороший уход – куда? Всю жизнь об этом думаю. За горизонт, в невидимое? – точка схода, – punto di fuga. Да нет никакого ухода. Смерть лишь обозначает воображаемую точку на горизонте, но меньше ничего уже не становится. Это иллюзия перспективы – все остается как есть. А больно потому, что больше не станет. Все останется, но умножения не будет. Разве что там, за горизонтом. И потому важно все здесь и сейчас. Все обнять, сохранить, запомнить.
Я шла, ускоряя шаг, яростно отрицая прямую перспективу. Никакой перспективы. Только обратная. Где точка схода – ты и только ты… Иконы, кватроченто, синие фрески Джотто – одно пространство, единый план. Едина плоть. Едиными устами. Ясно вспомнила его шершавые, растресканные, пропитанные солью ладони. И вдруг представила, словно увидела: вот он сидит у окна хосписа в кресле-каталке и играет на губной гармошке. Что он играл?
Я вышла к Мадонна-дель’Орто. Пахло морем. На Фондамента Мизерикордия рядом с таверной «Paradiso Perduto» стояли, задрав головы, две девочки-подростка с котятами на руках. С балкона свесился бульдог. Девочки кричали в окна, словно обращаясь к бульдогу: «Чьи котята?» Выбежали откуда-то. Вроде как из Парадизо. «Потерянный рай» открывается в семь… Сейчас там никого еще нет – время половина седьмого.
А мимо плывут лодки. Бегут облака.
Боже, Боже.
Нет, так не должно было быть.
Запишешь, отдашь, отделишь. И постепенно написанное становится отдельным, прекрасным цельным, как картина на стене в доме, – уже ни мазков не разобрать и не помнишь, как краски смешивал: висит и висит. О, знал бы я, что так бывает. И убивают-то не тебя, оказывается. Неужели такая расплата? Не расплата, конечно, но ответственность за сохранение жизнетоков, из которых рождаются слова. И вот теперь все то, что так удобно запихнула в слова, встало оттуда, как из гроба, и, грозно склонившись, твердит: «Мы все живые. Думала, будет не так больно?»
Я резко свернула с набережной и направилась в сторону лагуны. По узкой калле навстречу бежала маленькая девочка. Перед ней летела оранжевая бабочка, то и дело садясь на ярко-рыжую кирпичную кладку.
Нет деленья на чуждых —
Есть граница стыда
В виде разницы в чувствах
При словце «никогда»…
Тогда что же? Пиши. Снимай кино. Ставь спектакли. Играй, пой, рисуй. Чего ты еще хотела? Сама говоришь – ни о чем не жалеешь. Ведь не эпилога же, не торжественно-значительного финала? Нет, конечно – не этого. Другого. Света повседневности на шереховатой стене. Запаха белья. Сетей во дворе. Золотистых хлебных крошек на домотканой скатерти. Скрипа уключин. Игрушек на дощатом полу. Сапогов у порога. И только потом краски. И только потом слова. Всюду – где жизнь осязаемо жительствует. Я оплакивала невозможность жизни вплоть до болезни, когда все исполнено простым смыслом: наполнить стакан ледяной водой, улыбнуться, помочь перевернуться… Прикоснуться. Дотронуться. Да, да, именно вложить персты. Боже, как я понимаю Фому! Я торопилась, словно спешила выйти из кадра. Мне все казалось, что я попала в какое-то кино, которое никак не кончается. Еще немного – и я наконец выйду на воздух, на простор, к морю – и все будет как было. И город, как куриный бог, будет прорезан улицами насквозь, а каждый день освещен счастливым знанием и обещанием случайной встречи.
На Фондамента Нуове из ворот вышел человек со знакомым лицом, в котором я узнала плотника, что недавно менял нам входную дверь.
Что он тут делает – в противоположном конце города?
Плотник уверенно шел навстречу, словно мы о ней договаривались:
– А у нас и вторая дверь для вас готова.
– Какая?
– Ну, из сада. Вы же хотели…
Разговор о калитке шел уже года три, если не больше. Так, чтобы из нашего сада можно было выйти прямо на улицу, не проходя через дом. Но за три года никто не пошевелился. И вот сегодня. «В нашем саду есть калитка, но она пока заперта. Видно, придется ждать особого разрешения, чтобы пройти через стену из отсюда в туда. Впрочем, воскресенье и в нашем саду. Виноград перебирает натянутые струны, по которым сам же и вьется вверх лозой пасхальных стихир, ползет по кирпичной стене и выше через осколки к небу…»
Сама всегда хотела, чтоб открыли эту калитку, и почти суеверно этого боялась.
Думала, это не сейчас. Оказалось, сейчас, но не мне.
Нет, не эпилога я искала. Не финала. Я хотела, чтоб мне открыли зеленую замурованную калитку. Я чаяла воскресения мертвых. И даже больше – жизни будущего века. Прямо здесь и сейчас.