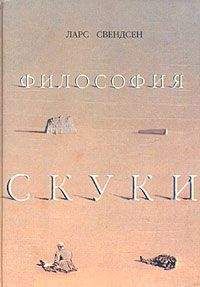Устин злится.
Злится на себя.
Почему жизнь не разрешает перескакивать через себя, забегать вперёд, пропуская скучные или пошлые сцены, которые от этого кажутся ещё скучнее и пошлее, почему она не идёт навстречу, позволяя перелистать настоящее, как надоевшую книгу? Реальность немилосердна! А игра? Изменяя своему правилу, Устин хочет пропустить в ней ряд сцен. Но от себя всё равно не уйти. Жизнь, которую станут вести Обушинский и Устина, будет лишь одной из возможных форм существования Устина Полыхаева. К тому же семейная жизнь, как молоко, имеет свойство прокисать, и дальше, возможно, будет только хуже. Так стоит ли спешить?
Устин размышляет:
Жизнь – тайна, потому что когда её, наконец, понимаешь, она кончается. В этом она напоминает шулера, который прекращает игру, когда раскрыли его фокусы, обнаружив тузов в рукаве. И всё же главная её жестокость заключается в том, что она не даёт перепрыгнуть через неделю, месяц, год, даже если выучил всё наперёд, до мелочей, до запятых и многоточий, даже если всё осточертело, давно засев в печёнках, даже если настоящее сводит с ума. Прекрасный сюжет для притчи Устины. Тема, близкая каждому, потому что людям в большинстве надоедает их однообразная жизнь, изменить которую у них не хватает сил, иначе бы они это давно сделали. Однако на долю каждого выпадает определённое везение, ка кое-то количество счастливых деньков, так что, перетасовав жизнь, как карточную колоду, из них вполне можно составить приличный отрезок сносного существования. На этом можно даже заработать, чем и занялся один ловкач. Представляю, как Утина неспешно разворачивает эту мысль в целое повествование. Как она его назовёт? Ах, ну конечно, «Сказание о цыганском бароне», кто, кроме цыган отважится на подобную авантюру, заведя игру со временем.
Устина рассказывает.
Давным-давно, когда меня ещё и на свете не было, это, правда, трудно представить, жил-был цыганский барон. Цыган, как цыган: черняв, кучеряв и горбонос. Он играл на гитаре, промышлял лошадьми, которых прежде чем продать надувал через камыш, за пятиалтынный предсказывал недород, а за рубль – урожай. Возраста он был неопределённого. «Мужчина исчисляет годы женщинами», – говорил он, густо намазывая на уши свои любовные подвиги, так что слушавшим потом казалось, будто они и близко не подходили к женщинам. А бывало, что после удачной кражи он умасливал обворованных рассказами из прошлого. Там он был то графом, то князем, то первой красавицей. «У кого богаче воображение, – хвастал он, теребя серьгу в ухе, – у того и прошлое богаче». Время – река с двумя берегами, и прошлое равноправно будущему. Оно живёт в памяти, как ребёнок во чреве, от него иногда пахнет розами, а иногда – как от трупа. Если будущее можно выбирать, как тропинку в лесу, то и прошлое можно заказывать. Поэтому цыган не врал, каждый раз предлагая новый цветок из его букета. И так навострился, что однажды открыл лавку по обмену прошлого на будущее. Тем, кому до зарезу нужно было будущее, он давал в рост, вычитая проценты из их прошлого, а кому требовалось прошлое, отвешивал за счёт их будущего. А бывало, путал, возвращая чужое будущее, или, как собаке узду, прилеплял прошлое, оставленное в залог другим. В его прихожей постоянно спорили, кто примерил чьё прошлое, выясняя, в каком из них женился, а в каком развёлся. Прошлое, что кукушкино гнездо, но может и аукнуться.
Барон работал и как сводня: его обычными клиентами были богатые на воспоминания старухи и дрожащие от грёз юнцы. Первые уходили от него окрылёнными, глядя вперёд, вторые мужали, взвалив груз чужого опыта. Цыган себя не обижал, хитрил, как мог, а векселем ему служила душа, которую ставили на кон, продымив прежде в тусклой коптилке дней. Торговля шла бойко, и цыган процветал. В будущем, по крохам выкроенном для себя, он купил дом, обзавёлся прислугой и уже не был цыганом, открестившись от своего прошлого.
Так бы всё и продолжалось, если бы сатана не усмотрел в этом покушение на свой хлеб. И он устранил конкурента, заперев его в клетку цыганского прошлого, запретив скакать воробьём по лестнице времени. Сатана явился завёрнутым в чёрный плащ и, пользуясь безграничным кредитом своего прошлого и будущего, скупил все имеющиеся векселя, рассовав их обратно по ящикам судеб. Не успел барон и трижды прочитать «Отче наш», как оказался снова в таборе среди разинувших рты цыганят.
Вот и вся притча. В устах Устины она прозвучит как-то так. А Обушинский? Умрёт от зависти? Или настроится на философский лад? Глядя на небо, откуда цыганом подмигивает луна, он, вероятно, подумает, что будущее заносится в книгу, а прошлое, как кошка, гуляет само по себе, и одному богу известно, кем можно оказаться в настоящем, когда оно станет далёким прошлым.
Обушинский подаёт надежды. Правда, критики его скорее упоминают, чем хвалят, но он чувствует, что стоит в двух шагах от славы. Изредка ему уже звонят из издательств, пока не бог весть каких, второразрядных, однако это уже кое-что, есть надежда, что им заинтересуются и крупные, надо радоваться – у большинства начинающих писателей и этого нет. Обушинский мечтает о тиражах, спит и видит, как с его книгами не расстаются в метро, автобусах, за рулём, как их не выпускают из рук, читая на ходу. Просыпаясь, он долго смотрит в потолок, и сон написан у него на лице.
– Бывает, торопятся выйти в свет, а выходят с балкона, – читая его, предостерегает Устина. – Ты думаешь, что будет потом?
– Потом? Когда потом?
– Ну, потом.
Обушинский молчит. Его мысли буксуют, не двигаясь с места.
«Главное, получить признание, – стучит у него. – Главное, получить признание».
Да, он тщеславен, отчасти этим смущён, но это ещё не повод, чтобы опускать глаза.
– Поживём – увидим, – отшучивается он. – Зачем размышлять до, о том, что будет после?
Слушая Обушинского, Устин пожимает плечами. У него своё разделение на «до» и «после». Ему всё чаще представляется длинный эскалатор, напоминающий реку – такой же исток, русло, устье, – который спускает в подземку. Его пассажирам разрешается садиться на ступени, бежать вверх, встречая тех, кто зашёл на него позже, на нём можно кричать, драться, заниматься любовью, толкать в спину, стоящих впереди, глядеть, как они летят вниз, можно стоять молча, как статуи, или топать ногами – на движение ленты это не повлияет. «Держаться левой стороны, не мешая проходу!» – всё, что вынес Устин из правил его пользования. Согласно представлениям Устина, «до» означает период, в течение которого пассажир ещё не осознает ни своего присутствия на эскалаторе, ни его движения, а «после» – когда уже отчётливо видит пункт назначения и место схода. Так течёт время на эскалаторе, привязанное к его движению, и таким образом оно у каждого своё. Устин Полыхаев уже давно пережил своё «после». Долгими зимними ночами он, перекручивая простыни, пытался вообразить эскалатор в своё отсутствие, пугая жену, вскрикивал от ужаса, кусая до крови губы, потому что эта картина при всей её очевидности не укладывалась в голове. И совершенно не понимал Обушинского. Его вера в слова, мелкое тщеславие и попытки вырезать своё имя на резиновых поручнях эскалатора, казались Устину ничтожным мальчишеством в сравнение с тем великим, что предстояло ему, и чего было невозможно избежать. Но Обушинскому это не грозило. Он мог себе позволить быть отчаянно легкомысленным, как прохожий за забором онкологического корпуса. Устина и Обушинский иные. Полыхаев вдруг отчётливо осознал, что между ним и ими пропасть, что они будут существовать и после того, как он сойдёт с эскалатора, как альбом семейных фотографий на развалинах разбомбленного дома. Смертный среди богов, он явно выпадал из их трио. И это казалось ему странным – творение, переживало своего творца, как мир, существующий после гибели Бога.
Эх, ёк-рагнарёк…
Устин вспоминает:
Он на приёме у Грудина.
– Да пойми же, чудак-человек, они всего лишь светящиеся пятна на экране, – говорит ему психиатр. Грудин играет карандашом, нервно раскачивая его пальцами, так что концы ударяются о блокнот. – Нельзя воспринимать их всерьёз.
– Как, например, тебя? – ёрничает Устин.
Но Грудина не пробить.
– Или самого себя, – невозмутимо парирует он.
В повисшей паузе карандаш стучит о бумагу, как гильотина.
– Какая разница, разве мы не такие же тени? – находится, наконец, Устин. – У них своё пространство, у нас – своё.
– Ну-ну, – хмыкает Грудин, занося что-то в блокнот. А через мгновенье, заметив свою оплошность, поправляет на переносице очки, снова превращаясь в психиатра, и кивком демонстрирует абсолютное согласие: – Угу.
– Ты угу, а я ни гу-гу, – зло передразнивает его Устин, и, хлопнув дверью, оставляет наедине с междометиями.
Вместо Устины в качестве персонажа Устин избирает теперь Макара Обушинского. Представляя себя на его месте, пробует им играть (играть в данном случае не закавычено).