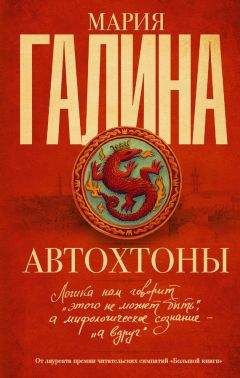Он брел мимо рюмочной, где молчаливые мужчины за пластиковыми столиками сурово ели пельмени, мимо окна, в котором причесывалась девушка в маленьком черном платье, мимо темного зева подворотни, мимо «Синей бутылки» и ресторации Юзефа, и улицы были пусты, и пани Агата, наверное, уже спала в своей узкой постели, и собачка спала у нее в ногах, и лапки подергивались во сне…
За спиной слышался цокот копыт. Все ближе, ближе. Из тумана выплыла белая лошадь, плюмажик над ушами устало покачивается, сонный возница в фантазийном камзоле свесил голову на грудь.
– Не подвезете?
Лошадь дернула храпом, плюмажик закачался бойчее, и возница вздрогнул и проснулся.
– Смотря куда, – флегматично сказал возница.
Он назвал улицу, и возница так же флегматично кивнул.
Сиденье было плюшевым, истертым, в свете проплывающего мимо фонаря оно отливало апельсином, наверное, когда-то было красным, но вылиняло… У возницы из ушей тянулись проводочки плеера.
Что сейчас делает Урия? Смотрит на своих маленьких футболистов? Обнимает Марину? Где сейчас вольные райдеры? Какой рассекают мрак? Все они, все бросили его, и Урия, и Вейнбаум, и Мардук с Упырем, и он остался один, беспомощный, спутанный золотистыми нитями чужого вымысла.
От лошади пахло навозом и прелой соломой и конским потом, а от возницы перегаром и человеческим потом и жвачкой «Орбит», и когда он спрыгнул с подножки, он услышал тихую музыку, ворочающуюся в коробочке плеера… Возница слушал «Волшебную флейту».
Веронички не было. За конторкой сонный юноша прихлебывал кофе из огромной голубой кружки с нарисованным на боку опухшим зайцем.
– Доплачивать будете? – спросил сонный юноша, не поднимая головы. – У вас срок кончается.
– Нет, я завтра уезжаю.
– Жаль, – неуверенно сказал юноша. Он читал «Социологию политики» Бурдье.
– Да нет, – сказал он, – не жаль. У вас поесть нечего?
– Контики только.
– Что?
– Ну, контики. Печенье такое. Круглое.
Юноша рассеянно бросил на конторку початую пачку. Он взял печенюшку, потом подумал и взял всю пачку. Почему контики? От «Кон-Тики», что ли?
– Спасибо. Красивая чашка. Эта, голубая.
Корш сошла с ума, потому что жила одновременно в разных временах. Я бы тоже свихнулся.
– А по-моему, она зеленая, – возразил юноша. – И заяц этот… мне не нравится, как он на меня смотрит.
* * *
Надо будет завтра купить майку и трусы. И носки. Надо было купить носки еще утром, о чем он вообще думал? Позвонить, что ли, Воробкевичу, спросить, как все прошло? Да нет, поздно уже.
Синенькие тома Гайдара жались друг к другу, словно бы в испуге. Раньше они, вроде бы, стояли ровней. Им тоже неуютно, подумал он. Книги, которые никто никогда не будет читать.
А почему она сердилась? Ведь они не разбивали чашку. Потому что взрослые тоже бывают не правы. Иногда они сердятся, потому что устали на работе или потому, что на них накричал начальник, а они не могут на него накричать в ответ. А иногда потому, что на самом деле должны сердиться на себя. Поэтому они обиделись и ушли? Да, поэтому они обиделись и ушли. А почему они вернулись? Потому, что на самом деле они все друг друга очень любили, а когда любишь, надо уметь прощать даже горькую обиду и несправедливость. Да, они вернулись и принесли котенка. А потом что было? А потом котенок рос и однажды, когда играл, разбил еще одну чашку, но никто на него не сердился, все только засмеялись. У этой истории хороший конец, сказал он, и отец подтвердил, что да, у этой истории хороший конец.
Ты тогда соврал мне. У этой истории плохой конец. Полярного летчика убили на войне. Папу Светланы убили на войне. Папу Маруси, старого большевика, посадили как врага народа, а потом расстреляли, Марусю посадили как дочку врага народа, и она умерла на лесоповале, а Светлана… наверное, умерла в детдоме, в эвакуации, от какой-то несерьезной болезни вроде дизентерии, но она была уже истощена, потому что завхоз детдома вместе с поварихой сбывали продукты налево. А вот что стало с котенком… С котятами обычно все тоже бывает очень грустно.
Он протянул руку и взял с полки сначала одну книгу, потом другую. Он не помнил, в каком томе «Голубая чашка». Ага, вот. «Мне тогда было тридцать два года. Марусе двадцать девять, а дочери нашей Светлане шесть с половиной. Только в конце лета я получил отпуск, и на последний теплый месяц мы сняли под Москвой дачу».
Они были очень молоды, а тут еще полярный летчик…
Исчерканный листок бумаги выпал из синенького томика и плавно спланировал на пол. Он поднял его. Вырван из блокнота. Аккуратно. Торопливый почерк. Почерк книжного человека.
Заяц, не успеваю письмо, я знаю, ты когда-нибудь обязательно приедешь, это очень важно, мы станем другие, это все для тебя… Заяц, еле успел письмо. Не верь этому человеку. Заяц, когда ты получишь это письмо… очень важно и совсем не то… Я слышал музыку сфер… Это Грааль, и я…
Привычка аккуратно расставлять знаки препинания остается с человеком, когда его покидает все остальное.
Он осторожно разжал зубы. Челюстные мышцы болели. В окне светало.
– Вы уходите? – сонный юноша был совсем сонный. – А когда вернетесь?
– Не знаю, – сказал он. – Наверное, никогда.
Со слежавшихся плотных небес опять сыпался снег, тихий и умиротворяющий, предутренний город был как умолкшая музыкальная шкатулка. Пап, а пап, что это за вещица? Это музыкальная шкатулка. Это что, такая раньше музыка была? Дааа. Давно была? Даааа. Папа, а какой тогда был папа? Папа? Папа был такой! Папа, а какой тогда был мальчик? Мальчик? Мальчик, мальчик был вот такой…
Тихий снег и тихий город и присыпанная снегом брусчатка. До чего же это хорошо вот так идти одному, ты сам себе дом, ты всех носишь с собой, под этой теплой кожаной оболочкой, всех твоих близких, все голоса, все лица, все книги, все чашки… Воробкевич это понял раньше, Воробкевич молодец, Воробкевич никогда не будет одинок.
Вдалеке протрусила белая лошадь, цокот копыт, смягченный снегом, катился по тихим улочкам…
Но теперь там что-то сломалось что сломалось там какой-то секрет что за секрет сам разберись попробуй ты уж не маленький ты просто лишняя деталь тебя и выбросить не жаль…
Театр был как шкатулка в шкатулке, китайцы любят такие штуки, шары, бесконечное число резных хрупких шаров, заключенных друг в друга. Одинокая лампочка под козырьком парадного подъезда светилась уютным желтым светом, в конусе света опадала и вздувалась снежная сетка.
Он обогнул здание, медленно, засунув руки в карманы, все глубже погружаясь в тихий теплый снежный сон, когда раз за разом запускаешь одну и ту же мелодию, но подкручиваешь невидимый рычажок так, чтобы она звучала все мягче, все нежнее, все минорнее…
Звонок у служебного хода был утоплен в гнездо, наверное, на него слишком часто жали. Ему пришлось сильно давить красным холодным пальцем, и звонок был тоже холодный и красный… Смешно. Он стоял и слушал шарканье шагов по паркету, потом тихий металлический звук отодвигаемых засовов.
– Я могу пройти?
– Можешь. – Темный силуэт чуть покачивался на фоне освещенной каптерки. – Ноги вытри.
Он вытер ноги.
Старый электрочайник с торчащим из него чиненным проводом, и газета на столе, вся в сморщенных кольцах от мокрого подстаканника, и койка, укрытая старым фланелевым одеялом. Плюс швабра с распластавшейся на полу, точно битая летучая мышь, мокрой тряпкой. Еще тут был старый электрический обогреватель, с открытой спиралью, убранной в сетчатый короб. Их вообще по технике безопасности можно?
– Вон туда можешь сесть.
Он сел на продавленный стул, предварительно придвинув его ближе к обогревателю, потому что у него замерзли ноги.
– Вертиго, – сказал он. – «Смерть Петрония». Загадочная история, верно?
Его собеседник неопределенно хмыкнул.
– У меня есть одна версия. Могу изложить, если интересно.
– Валяй.
Спираль электрообогревателя тихонько зудела, у него зачесалась шея.
– Очень, как бы это сказать, нравоучительная. Вертиго был бездарен. Он так прекрасно все устроил, с этой оперой, с этой расстановкой фигурантов, с этим действом, и сам же все погубил, потому что сочиненное им либретто плохо повлияло на тонкие вибрации. Все адепты новой жизни как правило бездарны, иначе зачем им желать этой новой жизни? А талант такая штука, если его нет, никакие гармонии не помогут. И он продолжал что-то там пописывать, и продавался то одним, то другим, потому что люди – это всего лишь инструмент, какая разница… Но, как все тираны и графоманы, он жаждал любви и признания, вот в чем беда. И узнав, что кто-то там всерьез занимается его творчеством, а они все любят говорить о себе – мое творчество, он не выдерживает и отправляет рукопись по почте, и списывается с этим бедным книжным червем, и вызывает его к себе, и открывает ему свою истерзанную душу… Ну, а потом спохватывается, конечно. И убивает беднягу, чтобы окончательно затереть следы. Неплохая версия, верно?