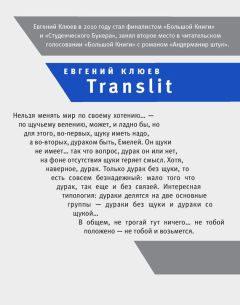Но вообще говоря, хорошая пора была… пусть и странная, если посмотреть на нее глазами настоящих западных хиппи. Да и запоздала сильно – по сравнению с Западом-то… впрочем, все равно! Отца, в основном, жалко было: как-то больно уж всерьез беспокоил его внешний вид сына, знакомые опять приставали, как в период Робертино, расспрашивали, здоров ли мальчик и все такое. Напрямую с ним отец на эти разговоры, однако, не выходил – перепоручал маме, а мама – что, мама? – свой человек… Не-пора-постричься-тебе? – …постричься? ты-о-чем? – да-нет-я-так-отца-сослуживцы-затюкали-но-ты-не-переживай-я-разберусь. И – всегда разбиралась, всегда отстаивала его «идеалы»… знала бы еще, что там отстаивать нечего было! Ибо это опять – ветер-с-той-стороны, только ветер-с-той-стороны… с этой, значит, стороны, на которой он сейчас. Черносливовый ветер, круживший голову, а больше ни-че-го. От-тебя-пахнет-сухофруктами.
Они были и собой, и другими, умирая за свою инаковость и по отношению к комсомольско-партийной молодежи, и по отношению к фарце, ошивавшейся у гостиниц «Интурист»… презирая оба фланга и строго блюдя свой «центр», над которым летали и жужжали англоязычные жуки и дирижабли, им подпевали польские трубадуры и скальды, Польша, как всегда, не сдавалась – сурсум-корда-Полония!.. Они наперебой читали Норвида, Тувима и особенно Галчинского: Вы-Польши-хотели-так-вот-вам-нате-скумбрия-в-томате-лещ! А еще – «Заговоренные дрожки», в переводе, разумеется, Бродского – от «Заговоренных дрожек» он, помнится, навсегда сошел с ума… даже влюбился в некую Марию Магдалену из Кракова, с улицы Будущего, Przysziości… – Пшышлосьци, по-польски, извините, – причем, кажется, не столько даже за имя Мария Магдалена, сколько чтобы быть ближе к «Заговоренным дрожкам». Но оказалось, что от «Заговоренных дрожек» дальше Марии Магдалены просто уже совсем никого не было… жаль. Дело кончилось маминой поездкой с дружественным визитом в Польшу – бедная мама: это оттуда у нее маниакальное знание расписания поездов, отправляющихся с Белорусского вокзала… профессиональная травма.
Когда он потом, уже гораздо позднее, был в Кракове, он даже издалека не посмотрел на улицу Пшышлосьци: ни одни заговоренные дрожки не ездили в том направлении. Но Марию Магдалену все равно вспоминал с благодарностью – за сиюминутные ценности в виде настоящих джинсов и громких сабо на деревяшках (вся Тверь и даже вся Москва зачарованно смотрели ему вслед, можете не сомневаться) в обмен на вечные ценности в виде золотых персьцёнкув, до которых польские красотки охочи и которые без проблем покупались в любом ювелирном магазине Союза. Златы-персьцёнэк… на-мое-счастье-на-счастье-каждой-дивчины. Счастье Мария Магдалена нашла потом где-то в эмиратах – в правильном месте, где как раз навалом счастья и персьцёнкув.
В то время как сам он так и сидит, где сидел… вблизи от Площади Битлз – площади в виде пластинки. Он еще наведается туда – не сейчас, потому что хочется подольше побыть на Гроссе Фрайхайт – улице Большой Свободы. Он ничего на свете не любит так, как большую свободу. Эх, была не была: ein grosser Kaffee mit Sahne und zwei Croissant, bitte!
– Noch einmal? – спрашивает Святой Павел.
– Noch einmal, Danke, all-I-need-is-it.
– Not love? – уточняет Святой Павел.
– Nein, Danke!
Not love. Not now. Maybe sometime later… one day.
Он, вообще говоря, не соврал никому, сказав, что пишет: может быть, он все это действительно пишет – пишет так или иначе, неким имеющимся в его сознании, как это там… когда-то давно ему очень понравилось словосочетание «самописец осциллографа» – вот хоть и имеющимся в его сознании самописцем-осциллографа. Работает, значит, такой загадочный самописец, регистрируя отношения между двумя или несколькими быстро меняющимися величинами – кажется, для того осциллографы и существуют, а вот куда сдает написанное, этого я тебе, Торульф, не скажу: не знаю, – но куда-то сдает, небось… невозможно ведь такие массивы текста в голове держать.
Конечно, он пишет, и не надо выворачивать руки ладонями вверх, показывая, что у него ни карандаша, ни записной книжки, не надо предъявлять выключенный мобильный, объясняя, что блокнот недоступен, не надо ссылаться на отсутствие компьютера… ничего ему не надо для того, чтобы писать, – ни того, на чем пишут, ни того, чем. Давно прошли времена зависимости от орудий труда, времена любви к дорогостоящим ручкам, к элегантным блокнотикам… ко всей этой ерунде, когда-то так увлекавшей его (умел, умел ты быть пижоном!), что он всерьез подумывал об открытии магазина дорогих писчебумажных принадлежностей где-нибудь в Вестербро… смешной человек! Теперь он обходится-без и пишет в сердце своем, пишет все время, ни на миг не останавливаясь… так что, Кит, глупо спрашивать: пишешь?… потому что – да, где бы он ни был и что бы ни делал, постоянно слагается и слагается в нем его текст, так было с Франциском Ассизским, всю свою жизнь писавшим одно-единственное бесконечное стихотворение, в которое заглянули и брат Солнце, и брат Ветер, а под конец жизни – и сестра Смерть… Целая жизнь, забывшая себя в стихотворении, жизнь – как стихотворение.
Так что он, конечно, пишет, чего уж…
То есть самописец осциллографа, летописец часов и дней его, знает свое дело, знает, что его дело писать, а уж кому читать и читать ли – не его дело! Ибо слова «писать» и «читать» суть другая пара, как бы ни напоминала она прочие пары – «спать» и «бодрствовать», «смеяться» и «плакать», «жить» и «умирать»… осторожнее с «читать» и «писать»! Тут ловушка: «читать» не значит «не писать», а «писать» не значит «не читать» – и нету здесь взаимоисключения значений.
Так что – вперед, самописец-осциллографа: всякий пишущий читает, а всякий читающий пишет… пишет по чужой истории свою, это и есть чтение, другого не бывает. Но о таких-то вещах что ж может знать самописец-осциллографа, колеблющийся между двумя подвижными величинами и не касаюшийся ни одной из них! В то время как и сами эти подвижные величины колеблются между Хельсинки и Берлином, Стокгольмом и Гамбургом, не пристанут никуда. И получается, что в Гамбурге все говорят по-шведски…
Правда (обещано – так обещано!), он пока больше не пишет про Кит, но смешная она, Кит, в самом деле: как будто он может контролировать, про кого пишет, про кого – нет. Как будто в его власти регулировать это постоянно происходящее в нем безорудийное письмо (самописец-осциллографа, конечно, не в счет, он метафора)… автоматическое письмо, светлой памяти Андре Бретона, как будто – не называя, например, имени Кит – он действительно тем самым не пишет про нее, не имеет ее в виду, как будто нет ничего от Кит в Манон, в Лауре… да вот хоть и в Стине, давно уже забытой где-то в самом начале! Смешная Кит… Утром он опять получил от нее смс-ку: Кит редко пишет – вот, разве, цитату какую-нибудь пришлет, из того, что читает в данный момент, его телефон полон цитатами, и он не стирает их, спасибо тебе, Nokia, за такой объем памяти – но чаще всего Кит просто присылает розу… уродливую такую, из старой версии Nokia, графическую еще – вроде облачка на стебельке: это значит, что, мол, привет тебе и все такое. Они давно договорились, что ему не нужно отвечать розой – что свою розу он может просто послать когда захочет… но он почти не посылает розу, потому как не его это идея и у каждого свои знаки, Кит, не сердись, – впрочем, она и не сердится, Кит понимает все. И он не писал бы о ней, видит Бог, но он не следит за собой, он не успевает следить за собой.
Пора бы включить телефон: кто-нибудь уже определенно честит его на чем свет стоит… какой-смысл-выключать-телефон-если-он-так-и-так-у-тебя-просто-вибрирует? А пусть не вибрирует! У человека есть право быть недоступным… абонент-недоступен, абонента-нет, абонент-умер-в-прошлом-веке. На улице Большой Свободы мобильным телефонам не место.
Впрочем, он уже не на улице Большой Свободы, он на углу Репербана, где поют Битлз, где ему восемнадцать лет и где он сожалеет о сегодня в пользу yesterday, когда все его troubles seemed so far away… помилуй Бог, какие troubles, когда тебе восемнадцать, какое yesterday? А ведь пелось с таким чувством, словно и правда ничего, кроме yesterday, не было в тогдашней его жизни! Теперь он редко поет эту песню, хотя с тех пор накопил уже такое yesterday, что оно массой своей безжалостно теснит его коротенькое tomorrow!
Tomorrow он будет уже в Ютландии, если верить маме, и в Копенгагене, если верить себе… Но когда же он верил себе!
В телефоне – ни одного входящего звонка, никто не звонил ему за два часа, а вот что касается его самого… В папке «Исходящие» четыре звонка: опять Торульфу, опять маме, дважды, и один раз – Тильде, самый ранний. Торульф и мама – это ладно, но вот интересно, о чем они поговорили с Тильдой… небось, о том, когда он прибывает, чтобы Тильда встретила его на машине, поскольку иначе до Тильды не добраться: в ее богатый пригород, где в каждой семье по несколько машин, автобусы не ходят.