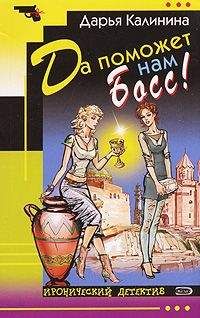В самый первый раз, через год после «свадьбы убёгом», когда была моя очередь, я едва не опозорилась.
За тот год, что мы учились и не виделись, а только изредка разговаривали по телефону – раз в три дня, не чаще (на чаще не хватало стипендии), – за тот год у меня накопилась масса вопросов абсолютно дурацкого содержания. Например, едят ли корейцы корейку и корейскую морковку, болеют ли корью каким-то особенным образом, кого корят и что под этим подразумевается, считаются ли четверть-корейские дети настоящими потомками Ким Ир Сена или три четверти славянской крови начисто лишают их этого права. Еще я хотела спросить, скоро ли мы будем окончательно и бесповоротно вместе.
Ну и спросила. Потому что у меня рот до ушей, хоть завязочки пришей. Вот действительно: были бы завязочки, я бы успела понять, что на такие вопросы распространяется правило «девочки не должны…».
Я спросила, он ответил.
Так, мол, и так. Времени, которое есть у нас впереди, много. И даже очень много. Оно буквально все наше. И больше ничье. Так что, куда спешить?
Конечно, у вундеркиндов свои, особые отношения со временем.
У простых людей – свои.
Опытным путем я тотчас же опровергла его теорию.
Вышла себе замуж, думая, что нашего времени больше нет.
Ага…
* * *
Потом, когда наступила его очередь, многое прояснилось. Например, если бы я приехала в Питер, то где бы мы жили? И на что? На какие такие шиши? Что бы мы ели? А пили? Пили – это очень важно. Илья сказал, что если без еды человек еще может прожить от месяца до трех, то без воды погибает буквально на третьи сутки.
Он, конечно, не подумал, что мы могли бы пить воду из луж. Абсолютно бесплатно.
Еще прояснилось, что он не уверен, что мною вообще можно овладеть.
Тоже странно – марксизмом, например, овладели даже самые отсталые слои, а я ведь гораздо удобнее, чем марксизм.
И еще он сказал, что я такая непредсказуемая, что могу помешать процессу синтеза белка и вообще его карьере. Он так и сказал: «Если ты, то все другое – мимо».
А другое же тоже – важно.
Я его понимала. Почти… Потому что как раз ожидала свою точную копию, думая почему-то, что это будет мальчик. Такая глупость… Хотя живота еще не было видно, я все время говорила ему: «Только ты, дружище, а все остальное – мимо». Какое мне дело было до всего остального? Все остальное, в случае чего, можно было подшить после.
…В общем, после «моих очередей» нам всегда было о чем поговорить. До полной разрядки международной напряженности. Но с каждым годом разговаривали мы всё меньше и меньше.
О чем говорить, если ничего не менялось?
Ничего…
– Ты взяла мальчика? – спросил Илья, глядя в свою малюсенькую чашку кофе.
– Мальчика, – обрадовалась я. В сумке у меня были фотографии. Одной рукой я уже нащупала конверт, чтобы быстро достать. Кажется, левой.
– Генетика – наука точная, как приговор. Отклонения могут быть самыми разнообразными, уродливыми и страшными.
Я кивнула. У моего мальчика уже были отклонения. Мне и воспитательница в детском саду об этом сказала. Но деликатно. Сейчас, когда всё за деньги, можно рассчитывать на деликатность.
Она такая внимательная оказалась, эта воспитательница. Я думала, она не заметит. Все-таки в группе еще двадцать два ребенка.
Но не все воруют.
То есть не все воруют жареную рыбу. Многие берут домой машинки, карандаши, чужие тапочки, заколки в волосы. Но у меня мальчик, ему заколки в волосы не нужны.
Ему нужна жареная рыба. Он ворует ее из собственной тарелки и еще меняет на компот, печенье и леденцы у некоторых других мальчиков. Но только у тех, которые жареную рыбу не любят.
Не любят так, как люблю ее я.
– Ты же не знал, что я люблю жареную рыбу? – так, чисто на всякий случай, уточнила я у Ильи.
– Нет. А что? При чем здесь рыба? – Он очень ласково смотрел на меня. Очень… Даже страшно…
Ни при чем. Просто мой мальчик заворачивал эту несчастную рыбу в бумажную салфетку.
Совершенно невозможно было отодрать. Если только отмыть под струей горячей воды?.. Но кто же станет мыть жареную рыбу? Я ела ее прямо с бумагой.
И успокоила воспитательницу: я сказала ей, что теперь мы воруем вместе. Что я – заказчик. И снабжаю исполнителя полиэтиленовыми пакетиками, и за свои салфетки она может быть теперь совершенно спокойна. Они очень невкусные.
Теперь воспитательница держит нашу рыбу в холодильнике.
Кто бы мог подумать, что эти вот генетические отклонения могут быть не только самыми разнообразными, но и передаваться воздушно-капельным путем?
Бедная воспитательница.
– Марин… – сказал Ким. – Марин…
* * *
«Марин» и еще «Маринка» – это крайний случай. Это из категории «нельзя». Девочки не должны… И мальчики не должны тоже…
Это стратегические запасы нежности.
Мы не называем друг друга по имени. Один или два раза… Может быть, три. Если на двоих…
Значит, этот – седьмой.
Я не умею считать?
Да. Я не умею. Я же не вундеркинд.
Мы не называем друг друга по имени.
Перебирая буквы, можно не сдержаться и задохнуться.
И это… Очень много лишнего. Шесть букв – мои. Четыре – его. В среднем – пять. Мы же не можем сказать друг другу так много лишнего.
Мы… боимся. Да?
Мы не называем друг друга по имени, потому что в имени – тысячи страниц и миллионы слов, которых никогда и ни при каких обстоятельствах мы друг другу не скажем.
От имени можно дрогнуть.
Прямо сильно.
До инфаркта. Со смертельным исходом.
Правда, он настаивает на инсульте. Наверное, потому что рассчитывает получить свою дурацкую Нобелевскую премию хоть тушкой, хоть чучелом. В смысле – в инвалидной коляске.
– Марин… – почти простонал Ким.
– Что? – Я уже минут пять не дышала. И могла не дышать еще целую вечность. Вот зачем мне тогда было дышать? В таком состоянии я могла бы стать Ихтиандром и собрать все жемчужины со дна морского.
Я еще подумала: «А потом мне зачем дышать, после этого вот «Марин»?» Но это так… Случайная вышла мысль. Если б только глупая, а подлая какая…
– Ты с ума сошла! А документы? Вы же, сто процентов, купили ему липовые документы? А болезни? А дурная наследственность? Эпилепсия? Наркозависимость? А с липовыми документами и липовой медицинской картой ты же его нигде не вылечишь! Вас же никуда в приличную страну не пустят!
– Придурок настоящий, – ласково сказала я. – А Монте-Кристо? Монте-Кристо, о котором ты прожужжал мне все уши в двух томах? У него какие были документы? Не липовые? А медицинская карта? И пускали его везде как миленького! В лучшие дома Европы! И на прочие сопредельные территории…
– Остров Монте-Кристо не имел сопредельных территорий, – сказал Илья.
– Тем более.
– Детей нельзя покупать в переходах. Им там не место!
– Правильно.
– Неправильно!
– Да. Неправильно, – согласилась я. – Детей вообще нельзя покупать. Просто так получилось, что у нас теперь все продается. Практически…
– Ты не понимаешь! Ты правда не понимаешь? Сейчас очень строго проверяют. Тебя не выпустят с ним. И мы не сможем… Быть… Никак. Быть вместе… Верни его назад, пока не поздно, а?
Варианты ответа. Первый: «Поздно!». Второй: «Куда? В переход?». Третий: «Придурок настоящий…». Четвертый: «Я лейтенантов на маршалов не меняю. Я вообще никого ни на кого не меняю».
Пятый – самый лучший: встать и уйти на автобус. И пусть сами платят за мышь. Кстати, это, кажется, совсем не мышь… То есть если не знать, то и не мышь. А платили мы всегда каждый за себя. Как в Европе и Америке.
Я встала и пошла.
А Илья заплакал.
Ужасным клокочущим звуком в каждой из шести моих букв.
Натуральный плачущий кореец, похожий на сильно располневшего немецкого индейца Гойко Митича.
Нечестно…
Он не плакал, когда я выбросила в урну привезенное из Питера обручальное кольцо для свадьбы «когда-нибудь». Он не плакал, когда я сидела с ним и его ожоговой комой в славном городе Черкассы.
Почему Черкассы? Там был химзавод, на котором синтезировали его белок. Завод от белка взорвался. А меня принесло в Черкассы совсем не взрывной волной, а очень даже поездом. Очень плохой туалет был в вагоне.
Он не плакал, когда сказал мне: «Все кончено. Я женюсь». Так, всхлипывал только.
Он не плакал, когда мы не мыли вместе посуду. Просто молча простояли всю ночь возле раковины на кухне. Я с вилкой в левой руке, он с пепельницей в правой. Зато плечом к плечу. Тело к телу. Иногда он целовал меня в макушку. И волосы у меня были абсолютно чистые. Кто после этого скажет, что мы не были близки?
Ага…
Но я встала и ушла. На свой рейсовый автобус «Вена – Львов». Во Львове у меня пересадка.
Я знала, что он никогда в жизни не побежит вслед.
Он и не побежал.
* * *
Думаете, что это всё?
Я тоже думала. Минут пять – семь.
Ладно, вру. До самой польской границы я думала, что это – всё.
Гитлер и Ким – капут.
До свидания, корейский летчик-эгоист.
Нет, прощай! Прощай навсегда… Прощай навсегда, потому что ты ладно бы придурок, но ведь на самом деле – настоящий.