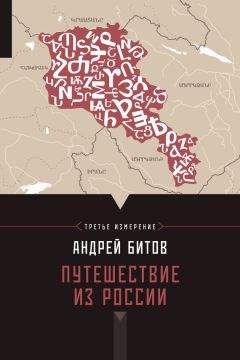И Карамышеву ничего не остается, как спуститься. И, спустившись, посмотреть на тот же минарет новыми глазами.
Я бы мог сказать, что, спустившись и поглядев, «Господи! как он высок…» – подумал Карамышев, словно только теперь осознав его в пространстве. Я бы мог сказать так – и вы бы мне поверили. Но также поверите вы мне, если я скажу, что, спустившись и оглянувшись, «Как он, в сущности, мал-невысок… – подумал Карамышев. – И построен-то кое-как…» Эта небрежность вдруг станет видна. «А вы обратили внимание, что он кривой? Вон, вон, отсюда смотрите…» – с гордостью обратят его внимание экскурсоводы, подтверждая тут же его несложные наблюдения.
Он посетит еще несколько медресе и рассмотрит еще несколько музейных стендов. Запишет еще несколько ненужных ему сведений со слов специалистов в свою книжечку.
И чтобы проявить перед самим собой инициативу, спишет со стенки следующие стихи:
Триста кавказских гор истолочь в ступе,
Обмазать девять куполов небес кровью сердца,
Сто лет быть заключенным в подземелье,
Чем провести мгновение с невеждой.
Удивят его эти стихи. Не то чтобы заключенной в них поэзией, а – определенностью. С особым чувством взглянет он на мавзолей Пахлаван Махмуда, написавшего эти строки, и этот мавзолей сделается как бы понятен: все-таки в нем захоронен знакомый. Вот еще смысл поэзии – так быстро становиться знакомым, как этот несколько сотен лет назад живший в этой чужой жаре, секунду назад незнакомый Пахлаван Махмуд! Вот и смысл слова «известный»! Нравился Карамышеву Пахлаван Махмуд в свете свежего базарного проигрыша…
«А ведь я, пожалуй, всю жизнь провел с невеждой…» – так заключил свои рассуждения Карамышев, начавшиеся с того, кому же он вчера проиграл на базаре?.. Судьбе, Петру Геннадьевичу, себе? И вот что, простое, внезапно поражает его: конечно, судьба – но проиграл-то он сам, и именно Петру Геннадьевичу!.. А вот что именно ему – в этом было что-то важное для Карамышева сейчас, определяющее именно эту, скрытую пока от всех, тревожащую его ситуацию, в которой он и сам-то себе признаться пока не может. Получается, что что-то не то проигрывал он, не деньги, – это была лишь репетиция, базарная репродукция, модель, схема… Карамышев ведь ЕЕ проигрывал, любовь свою! Он ввязался в эту нелепую игру довольно-таки давно… Как напомнила ему сейчас внезапность его согласия на командировку – внезапный же его подход к игорному столу, а затруднения с отъездом, с приездом, с устройством – следующие и следующие проигранные им под гипнозом уверенности в себе и власти над ситуацией мелкие, но набегающие ставки!.. «Да ведь иной роже я бы никогда не проиграл! – так подумал Карамышев. – Надо было Петру Геннадьевичу что-то иметь в своем лице такое… чтобы я подошел, стал с ним играть и проиграл. Ведь он же должен был мне понравиться, привлечь меня сначала…» Карамышев вспомнил те немногие случаи азарта и проигрыша, хотя бы в очевидной, карточной форме, и еще раз убедился, вспомнив лица тех, с кем играл, что нравились ему чем-то те лица, манили с ними играть… Ведь Карамышев не игрок, игра его не привлекает – проходит же он каждый раз мимо, зная, что играть в азартные игры бессмысленно и проигрыш гарантирован, – и не играет. Так что не в ИГРУ он проигрывал в те редкие случаи, что ни с того ни с сего садился играть, а людям он проигрывал. Соперникам. «С чего же это я взял, дурак, – в сердцах сказал себе Карамышев, – что мой соперник непривлекателен, как те, с которыми я не сяду играть?.. А может, он как Петр Геннадьевич и я с ним уже играю!!» И Карамышев похолодел, до конца осознав, до чего же правильно лежит авиабилет у него в кармане… «А ведь я, пожалуй, всю жизнь провел с невеждой…» – именно тогда подумает про себя он. Потому что до чего же странно, противоречиво и нелепо: всю жизнь обучаться сведениям, не имеющим к твоей единственной жизни никакого отношения, и пытаться им соответствовать, и полагать неудачи за счет неточного или халатного следования преподанному извне, и страдать от своих неспособностей к имитации и исполнению, вместо того чтобы с самого начала прислушаться к точности собственной жизни и внятности внутреннего голоса и развить этот слух к себе до абсолютного!.. Какого могущества лишаемся мы, отвергая и отрицая данный нам свыше аппарат реальности как нечто фантастичное и нематериальное, не относящееся к безусловности и плотности окружающей жизни… Как же это не сомневаемся мы в возможности познать постороннее и выработать правила помещения себя в нем, то есть как раз разъединяя себя с миром, вместо того чтобы объединиться с ним, научившись слушать голос собственной природы, безусловно общий с голосом творения! Люди представились Карамышеву слепыми, глухими и самодовольными в уродстве. Да, если есть человек, который не разучился слышать себя и всю жизнь употребил на упражнение, помножение и развитие именно такого, истинного знания жизни, – то, право, можно понять, что лучше сто лет просидеть в темнице, чем провести мгновение со мною… Карамышев подумал, что уже поздно, но еще не поздно: какой-то слабый процент такого внутреннего слуха у него еще есть. И все эти средства ослепших и оглохших людей, как то: медицина, наука, нравоучения, – представились ему отвратительными и ненужными, потому что взамен их неуклюжей, невежественной и самодовольной громоздкости можно просто пользоваться дарованной нам природой способностью слышать и видеть.
Ему было уже все показано и рассказано, он устал делать вдумчивый вид, схватывать на лету, проявлять способности к усвоению и кивать невпопад. Как всякий прирожденный реалист, был он, от природы же, двоечником. И он устал притворяться примерным учеником и придумывать умные вопросы учителю, чтобы тому было лестно отвечать… Но тут, к счастью, все и кончилось – вот и выход маячил из Ичан-Калы, как вдруг проявил Карамышев неожиданные для себя рвение и инициативу в учебном процессе: захотелось ему, видите ли, на недостроенный минарет.
Тут его почему-то стали хором отговаривать: мол, ничего там интересного и заслуживающего его ценного корреспондентского внимания нет и быть не может, пусть он им поверит – они-то знают. Не мог все-таки Карамышев понять, что не одному ему надоело. Отрицательные эмоции полагал он своей привилегией…
Все вздохнули, и он полез. И хотя минарет планировался быть выше всех, но был-то он ниже, и Карамышев достиг верха быстрее и легче, чем мог ожидать. Оказалось это даже гораздо более внезапно, чем на предыдущем минарете. Потому что когда Карамышев вылез на поверхность – над ним уже не было ничего, никакой башенки, одно небо. Над ним было только небо, но, когда он вылез и увидел его, все были уже там: и специалисты, и Негудбаев, и председатели колхозов при всех наградах по этому случаю, и Петр Геннадьевич с Михаилом Станиславовичем, немножко в стороне, послали ему дружеский, понимающий взгляд…
Карамышев стоял в центре круглой обширной площади. Она была залита каким-то неровным варом, как асфальтом, и тем более походила на площадь. Только по краям ее стояли не дома, а небо. И тот четкий, круглый, острый край, хотя и был далек, был щемяще опасен, край этот проходил где-то прямо под сердцем екающим спазмом, и Карамышев не мог и шагу ступить к краю… Это чувство края, хотя по площади можно было спокойно гулять, – было из чувств неожиданных, но странно оправданных. Карамышев стоял посреди площади недостроенного минарета, или, как он пошутил, «недорета», и боялся вывалиться за край, находившийся от него в добрых десяти метрах. Перед ним опять была Хива, из пустыни и неба, но на этот раз не вставленная в кадрик муэдзинова окошка, а просторная, как с горы. Так же толпились крыши; такие же, доказанные в древности, теоремы выстраивали из кубов, полусфер, из теней и света, из глины и неба – мавзолеи и медресе. Где-нибудь вот в таком же дворике мог бродить когда-то Авиценна и думать свои словесные, ленивые, формалистические мысли за небольшую плату золотом и положение при дворе, вроде таких:
«Если бы человеку, одаренному лишь различающей способностью, представили умопостигаемые вещи, он отверг бы эти вещи и счел бы их невероятными. Точно так же некоторые разумные люди отвергали и считали невероятными вещи, постигаемые благодаря пророческому дару. Это и есть чистейшее невежество…
Короче говоря, пророки – это те, кто лечит заболевания сердца».
То есть Петр Геннадьевич – пророк… В который раз Карамышев думает о том, как чуждо ему все чужое и как безнадежно пытаться это чужое понять… Думает он и о ЛИНИИ как о самом окончательном, высшем и точном, выражающем нас помимо воли. Он разглядывает язык этих линий сверху, немой, как письмена майя, и думает о том, что архитектуру должны читать графологи. И эти термитные, неразумные и безукоризненные постройки, располагаясь во времени, в глубь веков, – вдруг соскользнут, какой-то своей грубостью и прямизной, сквозь тысячелетия, прямо в Древний Египет. А казалось бы, та же прямая… Вот что никому не подделать – так это прямую линию! И тут вдруг сообразит Карамышев свой «умный» вопрос заждавшимся специалистам из своей свиты: