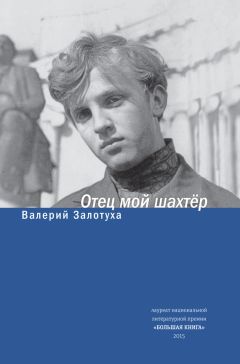Кажется, теперь все было готово. На мощные танковые клыки набросили два толстенных троса, они тянулись, лежа на траве, к сосне, которая была теперь центром, сердечником сооруженного ворота: на стволе крепились стальные башмаки, от них расходились лучами трубы, заполненные внутри для прочности застывшим раствором.
– Чего мнетесь, взялися! – прикрикнул дедушка Воробьев на женщин.
За каждую из труб встало человек по десять.
– И пошли! – скомандовал дедушка Воробьев, все налегли на трубы, и ворот стал крутиться легко и просто, «башмаки» скользили по гладкому стволу.
– Голова закрутится, – пошутил кто-то.
Ворот шел легко до тех пор, пока канат, шевелясь в траве, как змея, не поднялся и не натянулся, прямо соединив собою танк и людей.
От спуска подходили еще люди, в основном женщины; видя, что работа началась без них, они торопливо подбегали к трубам, тесня остальных.
Ворот встал. Ничего не кончилось. Все только начиналось.
– Да скорей, тянетесь! – кричал дедушка Воробьев, подзывая идущих.
Теперь у каждой трубы стояло человек по двадцать, тесно-тесно стояли. Мамин потерялся как-то среди всех, перестав быть здесь командиром и, кажется, даже забыв про собственное командирство, приготовясь толкать трубу, он озирался и видел женские лишь лица, бабьи. В черных пиджаках спецовок, в телогрейках, в сапожищах, а кто-то и в платьишках и легкой обувке – как позвали, так они из дому и выскочили, в платках и простоволосые, старые, молодые, худые, полные: те, что молились сегодня, и те, что грабили; те, что орали громче всех, и те, что молчали; те, что смеялись, и те, что выли; те, что попрекали, и те, что жалели.
– Разом как рукой махну, так и навалилися! – объявил дедушка Воробьев и поднял руку.
Каждый у ворота приготовился, каждый напрягся, каждый вдохнул глубоко сырой ночной воздух.
– На раскачечку! На раз-два-три! А и взялися!! – Дедушка Воробьев опустил резко руку и, налегая на трубу, вдавливая в землю копыто, поднимая вверх всклокоченную бороденку, закричал высоко и чуток по-козлиному: – Ты, боярыня, куды пошла! И-и-раз!! Я, боярин, во лесок пошла! И-и-два!! Ко боярину молоденьку! И-и-три!!
Навалились все на ворот, разом охнув, и каждая фраза стародавней рабочей песни приказывала: держать! держать! держать!
– Ты, боярыня, куды пошла!
Что был каждый из них, да и все, взятые вместе, в сравнении с танком? Ничего! Они же были – временные, а он, наверное, – вечный. Они были из боящегося огня, холода и боли мяса, из неверных хрупких костей, он – из могущественного железа. Они хворали сызмала, они сомневались во всем на свете, они трусили по поводу и без повода, они врага боялись, а убив его вдруг, они бы каялись после всю жизнь, себя бы мучили и других, а он, танк, нет, никогда…
– Я, боярин, во лесок пошла!
И как сразу исказились у всех лица, как напряглись, натянулись – до последнего надрыва надорванные по жизни души…
– Ко боярину молоденьку!
– Ох, мамочка!!!
Танк не сдвинулся ни на миллиметр.
– Ну вот чего, – сердито заговорил дедушка Воробьев, – побаловались, а теперь работать давайте…
Все поняли, какая предстоит работа, и молча, моляще смотрели на дедушку Воробьева.
– Налегись, Галька, налегись! Другую трубу небось держать привыкла! Черта своего рябого!
Ствол сосны скрипел пронзительным живым голосом, верхушка раскачивалась, заслоняя свет частых крупных звезд, то одних, то других. Канат вздрагивал тяжело и натягивался струной толщиной в хорошую мужскую руку.
– Рожу, бабы!
Они упирались в трубы не руками уже – грудью, вытянув шеи, тараща напряженные глаза, поднимая некрасивые, потные, с прилипшими волосами, перекошенные от натуги, кричащие немым криком лица.
– Ты, боярыня, куды пошла? Я, боярин, во лесок пошла! Ко боярину молоденьку! – козлиным фальцетом выкрикивал дедушка Воробьев.
Перед Маминым, держась за край трубы, шел рыжий Яков Свириденко. Он был пунцов от натуги, глаза налились кровью, а на шее и поперек лба вздулись страшные синие вены.
Непомнящий оскальзывался, падал и был на вороте почти бесполезен.
Мамин по своей привычке скалил зубы, сжимая их с такой силой, что из белых его десен сочилась кровь.
Они вытащили танк под утро, когда черная земля начала сереть, а звезды – блекнуть. Кто-то лежал, скрючившись, на подводе. Кого-то глухо и безжалостно рвало.
Они, трое, стояли возле танка.
Под сосной, у ворота, скучились остальные. Грязные, измученные, жалкие. Теперь они видели, сколь велик и могуществен танк, и оттого робели, уважали его и, может быть, даже любили, а не ненавидели, как только что, когда тащили…
Мамин одернул гимнастерку, поправил фуражку и танкистские очки на лбу. Он был черен от усталости, но глаза сияли от счастья.
– Товарищи! – торжественно заговорил он. – От имени танкистов, от имени всей Красной Армии выношу вам горячую благодарность! Мы уходим, но мы вернемся! И будет это скоро, очень скоро, вам не придется долго ждать! Мы вернемся со всей непобедимой Красной Армией! Советская власть, товарищи…
– Да ехайте ж вы, господи боже мой! – заругалась и заплакала какая-то баба. – Налетят немцы, побьют вас, ехайте!!
Мамин сбился. Он не любил, когда ему мешали выступать, поморщился, хотел продолжить, но выхватил вдруг из кармашка на ремне планшетки командирский свисток и, надув щеки, пронзительно засвистел: два раза длинно и раз – коротко… И сам побежал к люку механика-водителя, а Свириденко и Непомнящий стали карабкаться по скобам на башню.
Танк взревел, осветил мощной фарой холмистое поле и пополз, покачиваясь и набирая скорость. Стоящие видели, как в луче фары возникла вдруг человеческая фигура, небольшая, щуплая, в черном. Танк остановился. Из люка выскочил Мамин, крикнул что-то этому человеку, погрозил широко пальцем, а потом отвесил затрещину и полез наверх, на свое командирское место, а этот человек стал торопливо забираться в люк механика-водителя.
И танк пошел дальше на восток, почти сразу растворившись в черном густом воздухе…
Ну вот и вся история. Хотя последнего я не сказал, сейчас… С рассветом они вернулись на то же самое место и приняли бой. Они шерстили немцев, расстреливали, не подпуская, мощной гаубичной пушкой короткоствольные и, в общем, жидкие фашистские танки, рубили пехоту картечью. Они держали переправу целый день и не пускали врага в наш город. А вечером, оставшись без снарядов, они взорвали себя и танк. От взрыва башня танка отлетела далеко, почти к самой сосне и еще долго там лежала, ржавела… После войны только, году где-то в шестидесятом, ее порезали автогеном и увезли на металлолом, это уже и я помню…
– А, это ты, Юр, напрасно, напрасно, зря ты так считаешь, зря. Да хороши мы сами, ясное дело, Юр, кто ж спорит? Разве ж я спорю? Только рожки-то я видал! Видал у одного. Это уже без тебя было, Юр, без танка, в пешем строю. Пошли мы в атаку, я штык у одного выпросил с винтовки СВТ, думал, резать их буду, врукопашную, думал, Юр. Да они не захотели врукопашную, Юра, они нас из минометов всех до единого положили. Всех до единого, а была почти полная рота…
Жора Ермаков замолчал. На западном берегу переправы он отрыл окопчик, неглубокий, для стрельбы с колена и, стоя к реке спиной, утрамбовывал, топоча сапожищами его песчаное дно, и разговаривал с тем, кого здесь не было. Но Жора, наверное, видел его теперь и слышал, иначе что бы он разговаривал.
– Очнулся я, Юр, и слышу: «пок-пок, пок-пок». Что это, думаю, такое?.. Глаза открываю, а один только открылся, левый, а правый – не, правый фрикцион у мене, видать, тогда отказал. И все перед глазом – в красном свете, застит… Открыть он открылся, а моргнуть им не могу, видно, и левый фрикцион, Юр, барахлил… А – «пок-пок, пок-пок»… Чего ж это, думаю, такое? А я потом уже разобрал, мне шкуру на затылке счесало и кровью все лицо залило, потому и красное-то все… А крови у меня, Юр, как у хорошего кабана, не совру… Гляжу я этим глазом своим красным, а их трое с пистолетами ходят, нас добивают. И к мене подходит один, встает и глядит… И я на него гляжу глазом этим, как рыба какая, как налим какой, хочу моргнуть ему: бей, мол… Уж так мне обидно-то было лежать перед ним, Юрочка… Уж так стыдно… А он, знаешь, достает с кармана тряпку, платок, значит… Каску-то снял и макушку свою вспотелую вытер, а потом плюнул на меня, как на падаль какую, и дальше пошел… Ну и чего, говоришь? А-а, Юр, как был ты нетерпеливый человек, так ты и есть! Рожки я у него видел, Юр! Два рожка, маленькие такие, востренькие и не на самой макушке, а чуток так с боков… Во-от… А ты говоришь – люди… Ты уж не спорь, Юр, пожалуйста, не спорь со мной…
Жора соорудил из сырого песка бруствер, выдавил забинтованными, похожими на лопаты ладонями ямку и дулом на запад положил сверху пулемет…