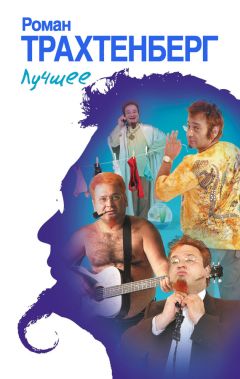Мне опять стало очень тоскливо.
Максим бросил мои пожитки на нижнюю койку самых близких к входу нар. Сюда слегка попадал «веселый ветер» из коридора. Я обрадовался своей удаче, получив доступ хоть к какому-то источнику воздуха.
Увидев, что я немного торможу, мой новый приятель взял инициативу в свои руки.
Я покорно и с радостью, как в садомазохистских сценах, разрешал ему мною командовать.
– Так, что тебе нужно? Хотя у тебя совсем ничего нет, зачем только спрашиваю, – пожал плечами мой благодетель и снова скрылся за дверью.
У меня же появилась возможность рассмотреть своих новых соседей. Я медленно и с опасением посмотрел по сторонам.
Несколько черно-коричневых и кофейно-шоколадных физиономий сокамерников напряженно и с какой-то нездоровой усмешкой глядели в мою сторону.
Рядом со столом я увидел огромную гориллу сорока лет в белых трусах «боксерс». Вожаком этой небольшой стаи явно был он. Как выяснилось позже, до тюрьмы Рубен жил в Филадельфии и сидел за вооруженный грабеж. Он и несколько его дружбанов напали на инкассаторскую машину, выезжавшую из «молла»[16].
Проведя в разных тюрьмах больше шестнадцати лет, досиживать оставшийся ему срок он приехал в Форт-Фикс. Несмотря на абсолютное несходство, с Рубеном мы подружились практически сразу же.
Позже я встречался с ним на зоне или проходил мимо его корпуса, где он всегда тусовался на лавочке, совсем как российская бабушка у подъезда пятиэтажки.
Мы затевали громкий и достаточно демонстративный разговор, приветствуя и похлопывая друг друга по плечам.
– Как дела, дружище Рубен?
– Отлично, Лио! Проблем нет?
– Твоими молитвами, приятель. Хочешь сигаретку?
– Не откажусь, спасибо тебе, Россия! Если что – заходи. Все будет ОК.
На наше теплое общение и непонятную дружбу с удивлением поглядывали его страшнолицые и трудно различимые между собой друзья.
Расизм и сегрегация с обеих сторон расцветала в Форте-Фикс пышным цветом. При этом чернокожие явно брали реванш за все годы унизительного американского рабства.
– Я видел этого русского по телевизору, а потом мы были соседями по камере. Он свой, – обычно с гордостью и улыбкой уже позже отвечал своим приятелям Рубен, размахивая, как бабочка, своим огромными ручищами.
… Я начал знакомиться со своими новыми соседями. Как мне казалось, всем своим видом я излучал потоки доброжелательности и человеколюбия. Я хорошо знал, что первое впечатление важно, как никакое другое.
Относительное радушие проявил только Рубен, остальные отнеслись ко мне по-тюремному: полузлобно и настороженно.
Кратко сказав «здрасьте», я обошел всех по кругу и крепко пожал желающим их мокрые и неприветливые ладони. Некоторые от приветствия уклонились, другие – сжимали руку в кулак и в ответ слегка ударяли по моей дружественной пятерне.
После вручения верительных грамот я скромно уединился у своей шконки и пока пустого шкафа.
В дверях появился по-прежнему взъерошенный и деловой Максим.
Он принес кусок мыла «Дав», пару пачек красного «Мальборо», рулон туалетной бумаги и еще кое-какую мелочовку.
Я разложил свои немногочисленные сокровища на одной единственной полке в незакрывающемся шкафу-локере[17], кое-как заправил койку, и мы вышли из корпуса.
Я чувствовал, что Максиму явно не терпится представить меня русской общине Форта-Фикс.
Макс говорил не переставая: на меня беспрерывно лился поток новой информации. Я, в свою очередь, задавал свои глупые вопросы, казавшиеся мне в тот момент жизненно важными. На многие из них моему великодушному тюремному гуру приходилось отвечать дважды.
Как и в первые дни эмиграции в Нью-Йорк, поток поступавшей извне информации превышал способности моего восприятия. Я хотел знать и понять все – «здесь и сейчас»…
…Русских, то есть выходцев из бывшего Союза ССР, на двух с половиной тысячной Южной стороне тюрьмы Форт-Фикс вместе со мной было человек двенадцать. Большинство из них в столовую не ходили или приходили в последнюю очередь в самом прямом смысле этого слова. Чтобы свести стояние в ней к минимуму.
Максим и я вошли в скорбную тюремную столовую.
Как ни странно, но пахло в ней достаточно аппетитно, особенно принимая во внимание мое многочасовое голодание.
В гудящем на всех языках зале, рассчитанном человек на 250–300, было еще жарче, чем на улице или в корпусах. Вторая за этот вечер тишортка (футболка) за пару минут превратилась в противную мокрую тряпку, плотно облегающую живот, спину и грудь.
Мы уже были на полпути к блестящей стойке, у которой происходила раздача «тюремных макарон», как вдруг Макс начал отчаянно размахивать руками. Он явно пытался привлечь внимание четырех русских зэков, сидящих за отдельным столом в глубине ярко освещенного неоном зала.
Я медленно, как и вся очередь, продвигался вперед, мысленно готовясь к ответственному знакомству.
Наконец нас заметили, и Максим, показывая на меня рукой, как на экзотическое животное, прокричал кому-то вдаль: «У нас новый! Это Лева Трахтенберг!!!»
Четыре головы быстро повернулись в мою сторону.
Я, как и мой благодетель, тоже махнул им рукой, улыбнулся и, как мне показалось, даже присел в почтительном реверансе. В ответ нас позвали присоединиться к ужину за соседним от старожилов столом.
За блестящей двухметровой «раздачей» стояли трое чернокожих заключенных в белых рубашках с короткими рукавами и таких же белых брюках. На их головах озорно примостились полупрозрачные газовые колпаки. Рот и лицевую растительность прикрывали такие же стерильные маски на резинке, только надетые на подбородок. Создавалось полное впечатление, что еду раскладывали три черных Деда Мороза с седыми головами и окладистыми бородами.
Получив в пластмассовом подносе с выдавленными в нем углублениями по паре половников какой-то еды, мы перешли к стойке, гордо называвшейся «салатным баром».
Я моментально заметил разницу в зэковской кормежке между федеральной тюрьмой и двумя следственными изоляторами в Нью-Джерси, где я провел три месяца сразу же после ареста.
Мои глаза приятно радовали какие-то склизкие салатные листья и замызганные огурцы, стоящие рядом с огромными подносами риса, перемешанного с маленькой черной фасолью. Смесь «райс энд бинз»[18] в основном подавали для «латиносов», испаноязычных зэков.
Для них эта тюря была настолько же священна, как борщ для русских или суши для японцев. Как я потом узнал, в некоторых тюрьмах отсутствие этого простого белково-углеводного блюда приводило к забастовкам или восстаниям.
В тот день еды подавали много, но ее качество едва-едва соответствовало кормежке в плохой институтской столовке во времена моего студенчества. Тем не менее я радовался относительному тюремному изобилию – голодать в Форте-Фикс мне, по всей видимости, не придется…
Мы с Максимом добрались до русского стола, когда сидящие за ним зэки уже собирались уходить.
Меня рассматривали почти в упор, но, как ни странно, никаких отрицательных эмоций это не вызывало. Думаю, что я вылупился на своих новых знакомых в точности так же, как и они.
Через пару секунд мы все разулыбались и по очереди начали представляться: Лева – Саша, Лева – Боря, Лева – Славик, Лева – Семен.
Пожав всем руки, мы с Максимом уселись за освободившийся стол.
С русскими мы договорились встретиться после ужина на «Брайтоне»[19].
– Где-где? – не понял я, явно не поверив своим ушам.
– Где-где. В жопе труде! Здесь у нас местечко имеется, где мы тусуемся и играем в карты. Называется Брайтон, – улыбаясь, бросил напоследок мой новый знакомый с уменьшительно-ласкательным именем Славик.
Максим похлопал меня по плечу и успокоил:
– Не переживай, они нормальные ребята.
Он начал рассказывать, «кто за что» сидит и «кому сколько» осталось.
Я честно пытался следить за его мыслью, но информации было слишком много, и она незаметно для нас обоих вылетала из другого моего уха.
После ужина неожиданно испортилась погода: жара не спала, но началась гроза.
Зону закрыли для внутренних переходов. Народ сидел по корпусам, поглядывая на небо через немногочисленные окна. Влажность усилилась до предела; находиться в камерах стало совершенно невозможно. В ожидании окончания ливня многие сидели на холодных и потных ступеньках между вторым и третьим этажами.
Там же примостились мы с Максимом.
Периодически мой наставник выводил нас в один из туалетов на запрещенный в корпусах перекур. Теперь на вопросы отвечал я.
Оказалось, что благодаря «Новому русскому слову» мое «дело» было известно Максу более-менее хорошо. Новые сообщения и подробности он схватывал просто на лету.
Следуя наказам своих более опытных товарищей о многочисленных стукачах в американских тюрьмах, я выдавал информацию весьма избирательно. Однако открытость собеседника вступала в явное противоречие с образом доносчика, и вскоре мы заговорили откровенно.