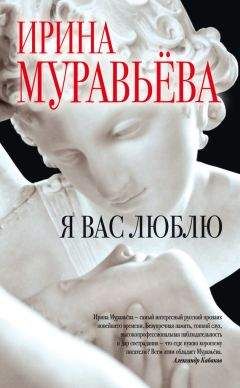– Зачем же вы это терпели? – боясь смотреть на Веденяпину, не удержалась Таня.
– А мне просто некуда было деваться. Он был моим мужем, законным, обвенчанным. На улицу разве сбежать? И что тогда дальше? Потом я привыкла. Я могла, скажем, приказать, чтобы он налил себе кофе в мой ботинок и выпил. И он наливал и не брезговал. Я могла сказать: «Пойди на двор, принеси снегу». И он шел, в одном белье, даже не накинув пальто, и приносил. Мне тоже хотелось иногда его помучить. Прямо до боли какой-то. Хотелось смешного, ужасного. Но он всё равно был сильнее меня. Я всё принимала за чистую монету, а он играл со мной, как с котенком. Встану, бывало, липкая, вся в красных пятнах. Посмотрю утром в зеркало: «Ой, господи! Ктой-то?»
Она засмеялась.
– Он бил вас? – ужаснулась Таня.
– Не бил, а терзал. Это хуже гораздо.
– Зачем мне всё знать? – закричала Таня. – Зачем вы всё это рассказали?
– Да жалко мне вас! Очень жалко! Я увидела у Филиппова: сидит девочка, розовая, пушистая, как хризантема, брови нахмурила, волнуется. И вдруг – этот старый развратник. И сын рядом с ним, совершенный ягненок. Ах, боже мой! – Она резко побелела под своей вуалеткой. – Всё ямочки ваши!
– Довольно… – прошептала Таня. – Пустите меня, я пойду.
– Он, верно, сказал вам, что я умираю? Сказал ведь? Признайтесь!
Таня кивнула.
– Он всем говорит. Уж, поди, сколько заупокойных назаказывал! Торопится очень. А вы не верьте: больна я совсем неопасно. Он меня хочет за границу отправить, а я всё не еду. И я не поеду, пока он мне сына не даст.
– Так сын же не хочет…
– Да кто вам сказал-то? – возмутилась Веденяпина, и слезы наполнили ее глаза. – Он с Васей хитрит. Откуда же Васе понять?
– Не ходите за мной больше! – взмолилась Таня. – Кто вам позволил следить за мной?
Веденяпина усмехнулась презрительно:
– Не так у меня много времени осталось, чтобы следить за вами, мадемуазель Лотосова. Живу здесь поблизости, вот и столкнулись.
– Да это неправда!
– Прощайте! – растерзанно засмеялась Веденяпина и сморгнула слезы.
Краешек вуалетки забился ей в рот от сильно подувшего снежного ветра.
* * *
С этого дня прошло несколько недель. Александр Сергеевич больше не посылал Тане цветов, не звонил. Если бы не розы, которые все еще стояли в гостиной, засохшие, с опущенными головами, как будто знали за собой тяжелую вину, то можно бы было подумать, что ничего и не было: ни оперы Глинки, ни шоколадного запаха в красном бархатном фойе, ни того, как они с Александром Сергеевичем шли по уснувшей Плющихе, и он близко наклонялся к самому ее лицу, смотрел очень странно и вдруг улыбался. Теперь по утрам начиналась тоска.
Тоска наполняла дом, и во всем, на чем случайно останавливался Танин взгляд, от голубиного помета на промороженном полене, принесенном дворником из сарая в гостиную, до вспышки заката на талом снегу, была сильная, но тихая тоска, а любая ерунда, вроде резкого скрипа саней на повороте или глухого хлопка форточки, вызывала слезы. Чем больше времени проходило с их встречи в кондитерской, тем острее вспоминалось его лицо и, главное, эта насквозь прожигающая, яркая улыбка. Она изо всех сил старалась не думать о нем, но всякий раз, когда чья-то высокая мужская фигура в длинном пальто мелькала перед ее глазами на улице, она останавливалась на ходу и невольно зажимала рукою то место между горлом и сердцем, которое сразу начинало гореть и колотиться внутри, как будто под кожу запрятали птицу.
Прошел февраль, март, наступил апрель – земля стала теплой, пахучей и пестрой, – и вдруг рано утром, десятого, лежа в постели и медленно освобождаясь от только что приснившейся чепухи, где основное место занимала темная, в павлиньих разводах вода, Таня вдруг ощутила себя свободной. Она не ждала больше, что он позвонит или встретится ей на улице. В душе как будто отпустили тугую резинку, и Александр Сергеевич вышел из памяти так, как выходят из комнаты. С уходом его всё вернулось: подружки, уроки, часы у портнихи, театр, концерты… А дни становились длиннее, светлее. Муфта была давно пересыпана нафталином и спрятана няней в коричневую коробку из-под туфель, днем в доме становилось солнечно, жарко, и пьяный от радости воздух влетал с легким стуком в открытые форточки.
Отец вдруг сказал за обедом, что завтра придет ее мать. Причем не одна, а с сестрой. Таня опустила глаза так низко, что закружилась голова.
– Их нужно принять, – сдержанно пояснил отец. – Посуди сама: она подумает, что я не передал тебе ее просьбу.
«Какая тебе разница, что она подумает?» – сверкнуло в Таниной голове, но она посмотрела на ставшее жалким отцовское лицо и ничего не сказала.
* * *
Назавтра вечером раздался звонок. Отец высунулся из кабинета, почему-то вытирая пальцы полотенцем, и громко сказал на весь дом:
– А вот и они!
И пошел открывать.
Таня скользнула в его кабинет, быстро выключила лампу, села в кресло и сквозь дверную щель принялась наблюдать. Вслед за взволнованным и неестественно жестикулирующим отцом в гостиную вошла мать, слегка пополневшая за эти годы, но все еще очень красивая, со своими блестящими сизо-голубыми глазами, которые она, как фамильную драгоценность, передала обеим дочерям. Таня тотчас узнала собственные глаза на лице у размашисто вошедшей за матерью девочки, которая от неловкости сделала слишком широкий шаг, запнулась, остановилась и ярко вспыхнула. Краска, как тень покрывшая ее лицо, была знакома до отвращения: Таня и сама вспыхивала точно так же. На девочке были белые чулки и клетчатое широкое пальто, которое выдавало в ней иностранку.
– Ну, где же… – начала мать своим сильным, переливающимся голосом, который Таня сразу вспомнила и ужаснулась, что даже голос у матери не изменился. – Ну, где же…
Тогда она вскочила и, щурясь, вышла к ним из темноты в ярко освещенную гостиную. Мать быстро всплеснула руками.
– Большая! – шепнула она. – Какая я дура, о господи! Я думала, что ты так и осталась маленькой и кудрявой.
– Да, кудри состригли! – скороговоркой и очень громко объяснил отец. – Состригли, как с пуделя. У нее инфлуэнца была два года назад – помнишь, я писал? – в жару провалялась весь месяц, потом было не расчесать. Обстригли всю голову. Зато теперь выросли – видишь? – нормальные косы.
Мать усмехнулась и тихо обняла ее. Таня продолжала стоять как стояла, она не сделала ни одного движения, не сказала ни слова, только отвернулась, когда мать попыталась поцеловать ее, и от этого душистый материнский поцелуй пришелся не в щеку, а в ухо. Отец громко кашлянул.
– Сестра твоя, Дина, – почти с угрозой произнес он, стыдясь и, видимо, сильно страдая за Таню. – Я рад, что теперь вы знакомы.
Дина быстро сняла красные кожаные перчатки и решительно, но неловко, ладонью вверх, протянула руку. Рука была маленькой, крепкой, горячей. Таня так же неловко пожала ее. Мать и отец переглянулись, и на красивом лице матери появилось тоскливое беспокойство.
– Скажи няне, чтобы поставили самовар, – попросил отец. – Сейчас будем чай пить.
Боясь встретиться глазами с матерью, Таня поспешно вышла из комнаты и долго стояла на кухне, борясь с желанием убежать на улицу через черный ход. Когда она вернулась, мать и отец сидели рядом на диване, а Дина в своем коротком клетчатом пальто стояла у окна спиной к ним и смотрела на улицу.
– Так что: ревматизм прошел окончательно? – уже другим, обычным, успокоившимся голосом спрашивал отец.
– Всё эти курорты, – быстро ответила мать. – Они мертвецов воскрешают! Я раньше не верила…
Она оглянулась на вошедшую Таню и замолчала.
– Сейчас принесут самовар, – почти грубо сказала Таня. – Ведь вы вроде чаю хотели?
Она посмотрела прямо в глаза матери и вдруг испугалась, что разрыдается.
– Таня! – Мать поднялась с дивана. – Я хотела объяснить тебе, прямо сейчас, при Дине и папе, почему это всё так вышло, что мы долго не виделись с тобой…
Таня крест-накрест обхватила себя руками и изо всех сил впилась ногтями обеих рук в плечи.
– Ну, что ты молчишь! – повелительно, как показалось Тане, воскликнула мать. – Скажи, что ты всё понимаешь! Ведь ты же большая!
Тане хотелось ответить именно так, как она в воображении своем столько раз отвечала ей. Всё так и случилось, как Таня ждала. Мешала, правда, эта девочка в белых чулках. Должны были быть только Таня и мать. Мать приходила к ней – одна, без отца и без девочки. Жалкая, очень красивая, она стояла перед Таней на коленях и просила прощения. Сколько раз, лежа без сна, Таня видела, как мать опускается перед ней на колени, и сколько доходящего до зуда наслаждения было в том, чтобы отвернуться от нее!
…В комнате при этом всегда было темно, горячая темнота колыхалась перед глазами, как под яркими звездами колыхаются песчаные морские отмели, если долго, не мигая, смотреть на них. Сжавшись под одеялом так, что ноги начинало сводить, Таня повторяла, что этого нельзя простить, но мать умоляла ее, клялась, что никого она не любила так, как Таню, и нет никаких других дочек…