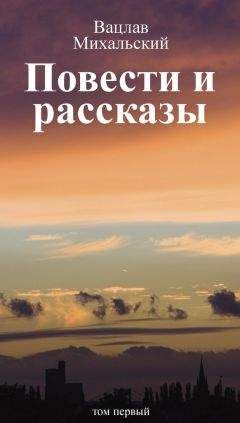«Так. Вот так так! Как кошка на дереве!» – думал Василий Петрович. Если бы кто-нибудь взялся расшифровать эти его нескладные мысли, то получилось бы примерно следующее: «Так… Сколько же лет я здесь не был? Как же я жил, не поднимая головы к небу? Без речки, без цветов, без ничего. Вот так так! А я же еще молодой, и Лида молодая, и нам еще долго жить, и степь со всеми цветами, со звездами, с речкой – все рядом. И как же это получилось, что стал ты такой затурканный, Вася, как кошка на дереве?! Так. Вот так так!»
Долго сидел он над речкой, потом поднялся и не спеша зашагал к сверкающему разливу огней своего поселка. По дороге он время от времени наклонялся и срывал то веточку полыни, то колокольчик, то розовый горошек или ярко белеющую в ночи ромашку.
«А с Лидой я поговорю, что это за привычка орать на меня при детях!» – подумал Василий Петрович, поднимаясь по обкрошившимся ступенькам лестницы к себе, на третий этаж. Смело утопил кнопку звонка на двери в свою квартиру.
– Ты чего, или взбесился, что так звонишь! – встретила его жена. – А, уже? Уже, да? А ну, дыхни!
Василий Петрович поглядел своей жене прямо в глаза, потом чуть отодвинул ее твердой левой рукой, а правую, в которой был букет степных цветов, гордо выбросил вперед:
– На, мать, держи!
Лида растерянно взяла цветы, не соображая, зачем они ей, почему? А Василий Петрович, больше не говоря ни слова, прошел в комнату.
Десять лет они жили вместе, но никогда Лида не видела его таким, даже в молодости… и эти цветы… никогда в жизни не приносил он ей цветов.
– Есть будешь? – спросила она, неуверенно входя следом за ним в комнату, все еще держа в руках букет.
– Наливай, – сказал Василий Петрович твердо и отвернулся от жены. – Ну, как дела, огольцы? – потрепал он по щекам Кольку и Сережку, игравших на зеленом диване-кровати пластмассовыми солдатиками.
Сережка и Колька ничего не ответили, но посмотрели на него несколько недоуменно.
– Я налила!
– Сегодня не на кухне. Сегодня суббота, – сказал Василий Петрович, – застилай здесь, в комнате.
Лида передернула полными плечами, но молча достала из шифоньера чистую льняную скатерть и накрыла на стол в комнате.
– Сережка, Колька! А ну руки мыть перед обедом! – приказал Василий Петрович.
Но мальчишки, по всегдашней своей привычке, и ухом не повели.
– Отец говорит, или не слышите! – строго прикрикнула на сыновей Лида и, быстро сняв их обоих с дивана-кровати, повела в ванную.
За ужином вся семья сидела чинно. Лида старалась не смотреть в глаза мужу, потому что они у него и сейчас были такие же неизвестные ей, такие же строгие и ясные, как тогда, когда он только что вошел в коридор с улицы. Она не могла привыкнуть к этим новым глазам и вообще ко всему его переменившемуся облику, он даже ложку теперь держал не так, как раньше, и ел как-то по-другому, как-то осанисто и степенно.
– Тебе киселя или чаю? – томимая молчанием, стараясь понять, пьяный он или трезвый, спросила Лида у мужа, подавая после второго детям кисель.
– Ты же знаешь, что я кисель не люблю, – глядя ей в глаза, спокойно отвечал Василий Петрович.
– Я чай поставлю, – поспешила Лида на кухню.
Зажигая газовую плитку и ставя на нее коричневый чайник, Лида мельком взглянула в зеркало, висевшее на кухне, и неожиданно для себя улыбнулась своему вдруг помолодевшему лицу.
Она любила кисель гораздо больше чая, но сегодня пила чай вместе с мужем.
Когда они поужинали, было десять часов вечера.
– Спасибо, мать! – сказал Василий Петрович, подымаясь из-за стола.
– Спасибо, – необычайно вежливо пролепетали Сережка и Колька.
– На здоровье! – чуть покраснев, ответила всем троим Лида.
– Пора спать! – сказал Василий Петрович. – Завтра вставать рано.
Лида хотела было спросить, зачем завтра вставать рано, если воскресный день, но не решилась почему-то, опять как-то сробела.
Пока жена мыла на кухне посуду, Василий Петрович уложил сыновей, погасил свет, разделся и лег было на широкую кровать, но потом встал, прошлепал босыми ногами к туалетному столику, взял будильник и завел его на пять часов утра.
Лида не приходила долго, было слышно, как шумит в ванной душ, под этот шум Василий Петрович и задремал.
Проснулся он оттого, что почувствовал, что жена лежит рядом. Василий Петрович обнял жену за большие мягкие плечи, властно повернул к себе и, взяв ее голову обеими руками, крепко и сильно поцеловал ее в губы. Лида быстро повернулась к нему спиной и лежала так долго, отвыкшая от мужниных ласк, дыханье у нее захватило и сердце забилось гулко-гулко.
Василий Петрович обнял голову жены, щеки у Лиды были мокрые от слез. Василий Петрович потянул к себе ее голову, Лида не противилась, повернулась к мужу. Он поцеловал ее крепко-крепко в губы, еще крепче, чем в первый раз, и тогда она заплакала громко.
Она плакала долго, припав к его, казалось, сильной груди.
Он не мешал ей плакать и только нежно и уверенно гладил ее шершавой ладонью, гладил, как маленькую девочку, как жену, которую он не знал и не видел много лет.
– Вась! Ва-а-ся! А ку-у-да мы завтра пойдем? – всхлипывая, спросила Лида.
– За раками! – отвечал Василий Петрович уверенно. – Все пойдем: ты, я, пацаны. Все пойдем. На речку. Раков ловить будем!
1967
«В надежде славы и добра…»
– Орфея забили камнями шалавы, так называемые вакханки. И река Гебр унесла его тело к широкому морю. А старенькую кифару, на которой играл он бывало, прибило к острову Лесбос. Там подобрали ее добрые лесбиянки и за ненужностью отдали богам на Олимп. А те поместили ее на небе и назвали Созвездием Лиры. С тех пор она и горит в ночи. Вон там, где строится телебашня, сейчас дождь – не видно, – говорю я Орфею.
Он сидит передо мной за столом в черных сатиновых трусах до колен, в вылинявшей тельняшке. Едим прямо из сковородки картошку, жаренную на подсолнечном масле. В углу, на тумбочке, стоит гармонь, он играет на ней и поет хриплым голосом свои прекрасные песни, за это я и прозвал его Орфеем. Орфей – щуплый, маленький, с прокуренными зубами и ранней лысиной. Он еще не знаменит и боится косого коменданта, бывшего когда-то тюремным надзирателем. Сейчас Орфей живет в общежитии нелегально. На днях его прогнали из института «за злоупотребление спиртными напитками и глумление над святынями». Пьет он не больше других и глумиться над святынями не думал. Просто собрал с этажей портреты русских классиков, поставил у себя в комнате и беседовал с ними. Кому не хочется посидеть в хорошей компании?
Орфей – застенчивый, тихий человек, поплававший в море, поживший среди простого народа, с песенной болью в худой груди. Эта боль его мучит, гложет, не отпускает ни днем, ни ночью: все чудятся строчки, звуки… Поэтому, когда выпьет, он становится дерзким, грубит, лезет на рожон. Правда, меня никогда не трогает, не знаю почему – так повелось.
Уже за полночь. Мой сосед по комнате уехал к себе домой, в Подмосковье, а изгнанный Орфей квартирует на его койке. Он еще не думает, что придут времена и десятки однокашников объявятся его братьями и будут искренне говорить, что не отходили от него ни на шаг, делили с ним хлеб, воду, соль, водку и что там еще? Никто ничего не делил. И я тоже. Каждый жил своей жизнью. А если случалось вместе поесть, выпить вина, перехватить друг у друга трешку, то разве это в счет? Мы были молоды, и каждый мнил себя Орфеем, с лирой, а не с гармошкой. И в этом не было ничего дурного.
Пора спать. Завтра нужно проснуться пораньше, сдать пустые бутылки, их принимают в нашей будке только до одиннадцати утра. Сдадим – купим килек, чаю. И день наш будет так же прекрасен, как этот майский дождь, что идет, светясь, за открытым настежь окном, льется поющими в ночи струнами, натянутыми на великой лире жизни.
– Надо почитать этот миф, – задумчиво говорит Орфей, – странно, что его убили женщины… – Он смотрит далеко вперед: за завесу дождя, за завесу будущих лет. – Как странно, – повторяет он еле слышно, и темный ужас прозренья мелькает в его пытливых, цепких глазах.
А может, все было и не так, может, этот последний штрих я выдумал сейчас, когда знаю, что на могиле Орфея поставлен памятник с надписью: «Большому русскому поэту…»
1976
Он был похож на осеннюю муху, ушастый, грустно раскосый, он вяло жил на земле, вяло думал.
Хотя где-то внутри его была пружина, позволявшая ему становиться вдруг неожиданно резким в движениях, дико острым в слове, рысьи цепким во взгляде.
Лет с двенадцати он уже был уверен в предстоящем величии и неповторимости своей на земле. Может быть, этому способствовал сон, который так часто любили рассказывать в семье и толковать как знамение. В ночь перед его рождением снилось матери огромное багровое солнце, восходящее над пустынной степью.
Когда пятнадцатилетние сверстники по первой влюбленности увлекались писанием стихов, он не написал и строчки, но уже тогда видел себя большим писателем впереди. Как все слабые, был он вспыльчив и отходчив сердцем. Кто знает, может, он и стал бы великим, ибо, повторяю, жила в нем пружина необыкновенной силы. Но всю свою жизнь все он откладывал на будущее. Сегодняшний день всегда казался ему не настоящим, временным, совсем не главным.