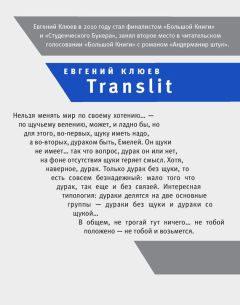Элемент языковой посторонности присутствовал всегда: это он запускал в ход любую историю, это ему истории были обязаны экзотическими подробностями, ароматными приправами couleur local, экскурсами в историю стран и народов. И, когда самая интересная для второй стороны и самая неинтересная для него часть встречи оставалась позади, начиналось то, ради чего все и затевалось: мифотворчество, иногда, увы, стимулировавшее вторую сторону к новым и новым грехопадениям в границах того же, разумеется сильно ограниченного, отрезка времени, подаренного обоим судьбой. И всякий раз скоро, в худшем случае завтра-рано-утром, ему ах-навсегда надо было уезжать… конечно-мы-едва-ли-встретимся-опять, но вот – временный адрес моего временного местожительства и временный номер моего временного телефона (слава тебе, домобильная эпоха!), конечно придуманные… пишите, звоните, как знать, как знать.
«Он фантазирует, ему скучно».
И кто-то-откуда-то постоянно наблюдал за ним, регулируя сей сложный трафик и не допуская встреч с теми, кто при случае мог бы и удивиться, застав его в какой-нибудь московской пельменной пожирающим двойные-пельмени-со-сметанкой-пожалуйста. Кто-то-откуда-то постоянно направлял его в краткосрочные странствия по близлежащим, но чаще, слава Богу, отдаленным городам страны, которые он, двадцати-с-гаком-летний, считал, видимо, надежно изолированными друг от друга… каковыми они по тем или иным причинам и были – или становились после его отъезда-навсегда? Впрочем, ведь и Москва сама по себе, и Питер сам по себе – очень большие города.
Однажды, когда кто-то-откуда-то на минутку отвлекся, случилось некое неприятное совпадение… неприятное настолько, что память о нем была загнана в самый дальний угол естества, а практика one-night-stand – раз и навсегда пресечена. Да она на тот момент так и так уже исчерпала себя, ибо прежней радости от новых знакомств он не испытывал. Скоро ему должно было исполниться тридцать – и все, кого он когда бы то ни было любил, не деля с ними однако того… что положено делить, постепенно исчезали из поля его зрения в бескрайних полях других зрений, пожав плечами и не поняв, чего он все-таки хотел от них – да и хотел ли. А самое, видите ли, грустное, странное, ужасное (ненужное зачеркнуть), что ничего-то он от них и не хотел, вот как.
«Ты так не любишь себя, что тебе хочется быть кем-то другим?» – этот вопрос был задан ему в момент того самого неприятного-совпадения, и он удивился, что поведение его, оказывается, со стороны могло выглядеть еще и так. Нет, дело было, конечно, не в том, что он не любил себя или так не любил себя… он и вообще не знал, как он к себе относится. Он даже не знал, существует ли он. И существует ли все вокруг – не знал. Между тем как накануне тридцати лет такие вопросы уже обычно перестают беспокоить. Но его – беспокоили. И он, по совести говоря, находил для этого объяснения… правда, объяснения получались сложными, длинными и едва ли годились для кого-то, кроме самого объясняющего.
А дело тут было в свойствах призмы.
Или нет, в Николае Федоровиче – главной загадке его детской жизни. Ну, «детской» – конечно, сильно сказано: речь о жизни школьной, причем о седьмом классе… какое ж это детство? Но именно в седьмом классе он и появился – сильно пожилой уже Николай Федорович в своем френче, таких френчей никто не носил тогда: воротничок-стойка и один-единственный ряд пуговиц, всегда застегнутых. Николай Федорович мог бы напоминать человека в футляре, но сильно мешало лицо – лицо невероятной тонкости. Не в смысле тонкие черты, а в смысле выражение лица – тонкое, ибо сам-το корпулентный Николай Федорович был фигурой, скорее, монументальной… Весь облик его был обликом недобитого пролетариатом по случайному стечению обстоятельств классового врага… мужской вариант его собственной бабушки по материнской линии – прозрачной на свет старушки с манерами тени.
Так вот… Николай Федорович преподавал ненавистную физику. Впрочем, если бы Николай Федорович попреподавал бы еще хоть пять минут… тогда физика могла бы стать для него всем. Но Николай Федорович даже и на пять минут не задержался: в следующем классе физику передали настолько милой даме, что в сравнении с этою милою дамой любая наука сразу же навсегда утрачивала смысл. Однако Бог с ней, с дамой.
О Николае Федоровиче ходили страшные слухи: получить пять по физике у него было невозможно, ибо – тут все цитировали самого же Николая Федоровича – на пять знал физику только Господь Бог. «Я знаю физику на четыре, – признавался Николай Федорович, – так что на пятерку пусть никто не рассчитывает».
Ему показался интересным такой поворот событий: в его дневнике никогда не бывало четверок за четверть. «У меня будет четверка по физике», – предупредил он маму в начале учебного года. «Печально, – сказала мама. – Но если нельзя иначе…»
Иначе было нельзя – и об этом ежедневно свидетельствовала грозная фигура Николая Федоровича, по роковому стечению обстоятельств оказавшегося еще и завучем. И хотя никто не рассказывал кровавых историй о его злодеяниях (четверка по физике в глазах соучеников все же не была кровавым злодеянием), школьники прилипали к стенам, как улитки к стеклу, когда он просто проходил мимо.
Пожалуй, урок о свойствах призмы был единственным уроком в его жизни, который он мог бы пересказать близко к тексту. Николай Федорович докладывал о преломлении солнечных лучей, проходящих сквозь призму, но начал с того, что живем мы не в цветном, а в бесцветном мире, ибо у окружающих нас предметов нет вовсе никакого цвета. Цвет появляется в результате отражения солнечного света поверхностью предмета. «Стало быть, на Вас, – глядя на Нину Колтырину, продолжал Николай Федорович (он был с учениками на «вы» – пожалуй, единственный, кто был на «вы»), – не коричневая кофточка, а бесцветная кофточка, в то время как на Вас, – взгляд на Колю Базанова, – рубашка не голубая, а… сами понимаете какая».
Это был удар в самое сердце. Но за ним последовал новый удар, которого сердце не выдержало и – треснуло. Трещина сохранилась навсегда.
Глядя почему-то прямо ему в сердце и забыв, видимо, что речь шла о всего-навсего призме, Николай Федорович вдруг полетел по небу и оттуда заговорил о том, что и все-то вокруг – игра света, и что нет ничего вокруг, а всё только кажется, кажется, кажется…
Тяжелый ангел в застегнутом наглухо френче.
И тут он, ученик седьмого, стало быть, класса «А» впервые в жизни потерял сознание. Потом, с промежутками в годы, это случилось еще четыре раза – и кончилось. Навсегда.
Когда он очнулся от первого своего обморока, над ним светились глаза Николая Федоровича, дикой доброты и страстности глаза, в которых так и стояло: нет ничего, мальчик, всё только игра света… И он понял, что никогда уже этого не забудет.
Если можно влюбиться в тяжелого ангела в наглухо застегнутом френче, то он влюбился тогда в Николая Федоровича.
А потом пришло время выставлять оценки за год. И Николай Федорович, прямо на уроке, сказал, глядя теми же светящимися глазами прямо ему в сердце:
– Через две недели я буду экзаменовать Вас. При всех. Одного у доски. По всему учебнику: с первой страницы до последней. Ошибка – и Вы пойдете на экзамен вместе с остальными. Там Вы сможете получить любую оценку от единицы до четырех. Ни одной ошибки – получите пять на месте.
Учитель не спросил, хочет ли этого ученик (ученик не хотел) – он просто поставил его в известность: будет так, и эта игра – не на жизнь, а на смерть. Игра с Богом, который – один – знает физику на пять.
Экзамен продолжался ровно столько, сколько нужно было, чтобы пролистать учебник физики с первой страницы до последней. Класс переворачивал страницы вместе с Николаем Федоровичем. Ни одной ошибки сделано не было. Николай Федорович глухо сказал: «Пять» – и, ни с кем не попрощавшись, вышел. Когда Николай Федорович перешагивал порог, на секунду показалось, что что-то в Николае Федоровиче сломалось, внутри, – и он испугался за Николая Федоровича.
Это была первая и последняя завучская пятерка по физике в их школе.
Через много лет он встретит Николая Федоровича гуляющим с красивой взрослой дочерью и крепкой деревянной тростью по Городскому саду в Твери. И он обнимет Николая Федоровича, и сокрушится от того, что физика ничем не стала в его жизни… простите, простите меня.
– Не на чем, – скажет Николай Федорович и опять посмотрит ему в сердце. – Вы так и так получили пятерку не за физику. На пять знает физику только Господь Бог. Это была пятерка за веру.
И он отправиться гулять дальше: с красивой взрослой дочерью и крепкой деревянной тростью.
Нет ничего, мальчик, всё только игра света…
Нет ничего.
Вот почему к тридцати годам ему так и не стало понятно, существует ли он.
Ему и сейчас это непонятно.
Ихь раухе нох ди летцте Цигаретте
(Ja vykurju jesche poslednjuju sigaretu)
Унд лег нохмаль ди альте Плятте ауф
(I snova postavlju etu staruju plastinku).
Вэр эр нох да, данн вайс ихь эс, эр хэтте
(Bud’ on jetsche sdes, ja znaju, jemu by dostalos)
Майн Хэрц гекригт им Зоммершлюсферкауф
(Mojo serdce s poslednej letnej rasprodazhi).
Эр хис нихьт фон Оэрцен
(Jego zvali ne von Oerzen),
Эр хис айнфах Том
(Jego zvali prosto Tom),
Унд альс эс им шлехьт гинг
(I, kogda dela ego stali plohi,)
Шриб ихь им: ихь ком
(Ja napisala jemu: jа jedu).
Да за ихь ди Вархайт
(Tut-to mne i otkrylas pravda),
Да хатте ихь Клярхайт
(Tut-to i stalo mne jasno),
Эр хат михь белёген
(On lgal mne),
Унд дас нихьт цу кнап
(A eto ne pustjak).
Эр шпрах фон фамилие
(On rasskazyval o semje)
Унд блауэм Блют
(I o goluboj krovi),
Эр вар айн Гановэ
(On byl moshennik),
Унд дас нихьт маль гут
(I eto sovsem ne horosho).
Ихь габ им дас Летцтес
(Ja otdala jemu posledneje),
Фраг нихьт, вэр эрзетцт эс
(Ne sprashivaj, kto vozmestit eto),
Нихьт маль фон дер Штойер
(za eto dazhe hotja by ot naloga)
Зэтц ман зо вас аб
(i to ne osbozhdajut).
Унд дас шлёс, фон дем эр шпрах
(I zámok, o kotorom on rasskazyval),
Вар айн Форхэнгешлёс
(byl navesnym zamkóm)
Ин дем Келлер, ин дем эр зихь эршос
(Ot podvala, v kotorom on zastrelilsja).
Эр хис нихьт фон Оерцен
(Jego zvali ne von Oerzen),
Дох дас вар мир гляйхь
(No mne eto bylo vsjo ravno).
Золянг ихь ин либтэ
(Poka ja ljubila jego),
Да вар ихь зо райхь
(Ja byla takoj bogatoj):
Эр хат мир им Лебен
(On dal mne v zhizni)
Зо филес гегебен
(Tak mnogo),
Дох дан кам дер гросэ
(A potom sluchilsja)
Цапфенштрайхь
(Polnyj obval).{25}
Большая страна и маленькая страна.