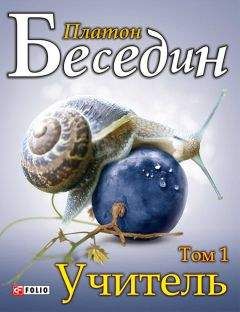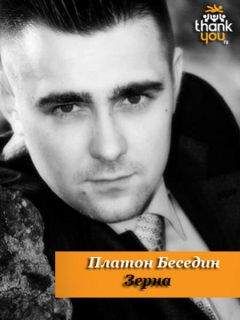– На, сука ебучая! Получай, блядь!
Брат однообразен, скуп на слова. И в то же время емок. Как герой Виктора Сухорукова, чеканящий: «Вы у меня, суки, еще за Севастополь ответите!» И пусть там – бандеровцы, а здесь – татары, но посыл тот же. Люди будут мстить, убивать друг друга. Словно у них нет иных развлечений.
– Аджы! Аджы! – стонет боров.
– Блядь! – взвизгивает татарин в вельветовом костюме.
Но брат не прекращает раздавать удары. Так косматый поп на Пасху кропил прихожан, выстраивавшихся у храма в Береговом, под который оборудовали бывшую ремонтную мастерскую, установив на шиферной крыше крест, развесив внутри иконы. Большинство приходило с колбасой, сыром, водкой, салом. А у нас в корзинке были только соль, куличи, яйца. Так правильно, объясняла мама, но я все равно очень стеснялся, переживал, что решат, будто мы, Бессоновы-Шкарины, совсем бедные.
На брате нет креста, рясы, но из доски, которую он отобрал у татар, торчит гвоздь, так что, может быть, действо, совершаемое Виктором, еще глубже, сакральнее; ведь в нем присутствует кровь, много крови. Гвоздь – не уверен, что в нем девять дюймов, но происходящее идеально подходит для клипа Трента Резнора – входит в еще недавно торжествовавших, упивавшихся безнаказанностью татар.
– Ааааааааа! – особенно надрывно кричит один из них.
Так, что мне хочется его пожалеть. Видимо, отчаянный крик действует и на брата: на мгновение Виктор застывает. И этого достаточно, чтобы татарин в вельветовом костюме перекатился по озерному песку к камышам, вскочил и бросился прочь. Может, и правда, не преувеличивал Рустем Решатович, когда говорил о ста двадцати из ста тридцати двух коушских татар, дезертировавших из Красной армии?
– Алим! – ошалев, кричит ему вслед боров.
Он на земле. Припечатываемый ударами палки, из которой торчит гвоздь. Как же быстро все переменилось! И первые стали последними. Происходящее, еще недавно казавшееся адом, превращается – ведь бьют уже не меня – в нечто похожее на просмотр боевичка: «Резня в Табачном» или «Татарская кровь» – над названием еще нужно подумать. И актер подходящий – подкачанный русский парень, вернувшийся из армии, чтобы навести порядок в родном селе, а может, и во всем Крыму. Да, это будет покруче «Бригады».
Студеной бодростью наливается тело. Вскакиваю, чтобы мстить. За ложь Рады. За пробитую голову рыжего парня у Пети дома. За унижение меня. Мстить с позиции силы. Так легко, так приятно. Это ведь чисто мужское, да? Охотник, самец с высоким потенциалом агрессии. Надо соответствовать внушаемому образу. Я ведь нормальный пацан. Не Саша Белый, но, как вариант, Пчела. Или Пчела в итоге оказался мудаком? Не знаю, не смотрел «Бригаду». Мой удел – «Беверли Хиллз 90210». Интереснее, человечнее, а главное – больше похоже на рай.
И, глядя, как брат возвышается над поверженным татарским боровом, я думаю, что дело не в Шкариных или Бессоновых, армии или «гражданке», физике или лирике, а в том, какие сериалы, фильмы мы обожали. Дело в одном нажатии кнопки, остановить которое невозможно.
Подбираюсь к тому, чтобы стать похожим на брата. Модель «Виктор Алексеевич Шкарин 13-09-83» идет в серийное производство. Будь им, стань им! Ударь! Шепчет голос, доносящийся откуда-то слева. Интересно, как выглядит его обладательница? Как Элизабет Херли в «Ослепленном желаниями»? Тогда у нее есть шансы.
Или я подхожу, чтобы остановить Виктора? Выкинуть палку, увести его домой? Прекратить избиение? Помочь татарскому борову?
Я и сам не знаю. Планирование – доставшаяся мне от древнего грека пята с болезненной сухой мозолью. Он плохо кончил, да и я не счастливчик.
Но брат наконец откидывает палку с торчащим гвоздем. Тяжело дыша, опирается ладонями о бедра. Разбитые губы опухли, глаз затекает гематомой, из левой брови сочится кровь.
– Татарские долбоебы, блядь!
Он сплевывает. И в этот момент свернувшийся эмбрионом боров взвизгивает, точно оправдывая данную мной кличку, и бьет брата. Виктор вскрикивает, хватается за ногу, валится назад.
– Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяядь!
Голова борова окровавлена. Зализанные волосы растрепались, повисли слипшимися локонами. В его руке нож. Боров хочет подняться, добить.
С опозданием опускаю биту на его большую липкую голову. Боров разжимает пальцы и в мгновение обмякает, будто выключатель нажали.
Луна становится ярче, полнее. Смотри, торжествуй, герой. Или – плачь, паникуй, жертва. Луне ведь без разницы, хотя и мне теперь тоже.
8Брат поднимается, зажав рану рукой, не переставая говорить «сукаблядь», в одно слово. То ли мне, то ли борову. Наверное, борову, потому что, ковыляя, Виктор подходит к нему, бьет ногой в шею. Боров, кажется, дергает рукой, точно Кит Ричардс, кайфующий от игры на гитаре. Слава богу, живой, спасибо! Открываю рот, дабы остановить брата, но он опережает меня и бьет еще раз. Вырывается запоздалый, отставший от группы атаки крик:
– Тормози, Витя!
Но брат, видимо, и сам все понимает. Как-то сразу, в миг становится ясно. Озарение, просветление – и тут же мрак.
– Мне хуево…
Брат говорит это непривычно тихо, рассеянно. Боюсь подойти к нему, боюсь притронуться, одно касание – и проклятие настигнет тебя. Рана Виктора кровоточит.
– Надо перевязать – оторви кусок футболки.
Думаю, о чьей футболке он говорит, но рву свою.
– Пидор татарский, блядь!
Брат перевязывает рану. Когда он финальным движением затягивает узел, окончательно понимаю, что случилось у озера. Изображение фокусируется. Картинка четкая, ясная, без помех. Паники нет. Пока что нет. Она расчищает место для торжественного своего появления, наваливаясь покорностью и оцепенением.
– Блядь, кажется, мы его захуярили, Бес! Ебать, блядь! – Брат, склонившись, осматривает татарского борова.
– Но…
– На хуй ты его со всей дури?
Брат говорит это напористо, борзо, как само собой разумеющееся, и начинаю верить, что я, действительно, убийца. Еще полчаса, час и вера моя станет окончательной, бесповоротной, приговаривающей.
Пахнет хвоей и тиной. Кровь на голове татарского борова. Господи, да какой он боров? Человек! Его зовут Зенур. Жаль, что не Лазарь.
Наверное, когда его найдут, кровь, запекшись, утратит красный оттенок, а вот футболка по-прежнему будет цвета винных дрожжей. И, глядя на нее, я хочу убедить себя, что передо мной все же не человек, а дрожжевое пятно, и я не у озера в Табачном, а дома, у парника, в безопасности.
– Сука, блядь!
Нет, сука не здесь. Она – там, у дискотеки. Дышит воздухом, отдыхает. Пока самцы убивают друг друга. Оказывается, это легче, чем зарезать курицу. Достаточно простой случайности.
– Нужно сбросить его в озеро!
Телевидение и кино делают из нас преступников. Лицо брата уже не бледно, не рассеяно – прищур такой, как обычно, ни миллиметра в плюс, ни миллиметра в минус. Да, Виктор Шкарин решителен, убедителен, но его слова для меня – пустышки, как флаера, которые раздавала у «Макдональдса» девушка с щечками, похожими на половинки яблока: взял, посмотрел, выкинул.
А вот крик души, совести на манер тех, что издают безумцы, юродивые, «мы пролили кровь» реален. Оглушительными ударами он рихтует черепную коробку, чтобы, достав мозг, вставить на его место новый – еще более мощный – генератор вины. Мучайся, тварь! И если захочешь смерти как искупления, то она ничего не изменит: слишком ты разбух от обиды и страха – не пролезть в игольное ушко. Поэтому для тебя – деревенская закоптелая банька и по всем углам пауки. Попробуй отмыться.
Бежать от нее! Прочь, прочь!
– Эй, Аркадий, ты куда?
Не оборачиваться, не возвращаться! Я должен учиться этому. Надо, надо утешить внутреннего ребенка в себе. И повзрослеть.