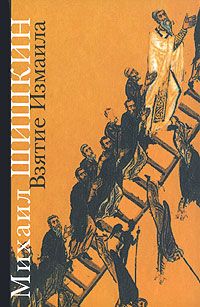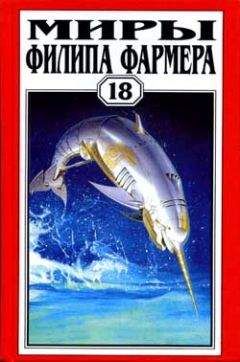Потом сам удивился своим словам. Я ведь не один. И Бог вовсе не наказывал меня – одарил. И если мой ребенок никогда не научится говорить, читать, писать – ну и что? Мне пришла в голову удивительно простая мысль, что все мои с ней занятия никому не нужны, что лучшее лечение для Анечки – просто любовь и тепло, и какая разница, может она читать стихи, прыгать со скакалкой, играть гаммы или нет. Она есть в моей жизни, и я ее люблю и благодарен ей за то, что она дала мне эту возможность любить.
Когда на следующий день пригнанные солдаты расчистили пути, я – под удивленные взгляды моих попутчиков – сошел и с первым поездом отправился обратно.
Когда приехал, Анечка спала. Матреша открыла дверь, подхватила шубу. Я, еще холодный и мокрый с улицы, отогревая пальцы под мышками, осторожно вошел в детскую и нечаянно разбудил мое чудо, наступив на лежавшую на ковре погремушку. Анечка подняла голову, увидела меня и улыбнулась, протянула ручки. Я взял ее, поднес к окну. Бессильные ножки болтались. Я целовал их, и в ту минуту так очевидно стало важное – у меня все в этой жизни есть, мне ничего больше не надо – все остальное пустота. Этот ребенок дал мне то, что никто на свете дать не сможет.
В ту ночь она долго не хотела засыпать, и я взял ее к себе, мы прижимались друг к другу – ее спина к моей груди. Я дышал в ее волосы и втягивал запах от ее затылка – самый вкусный запах на свете.
Для Анечки трудно было найти няньку, она боялась и не терпела вокруг себя новых людей, а к Матреше привыкла и любила ее. Однажды у меня пропали из ящика стола деньги, пятьсот рублей, которые я собирался положить в банк. Замок в ящике стола был сломан. Матреша в это время ходила с Анечкой на прогулку и слезно уверяла, крестясь, что заперла дверь, так что было непонятно, как воры, не замеченные швейцаром, пробрались в квартиру. Еще более странно было, что они не взяли пачку облигаций, лежавшую рядом, значит, действовали какие-то ненастоящие преступники, может быть, мальчишки.
Я пошел заявить в полицию. Денег было жалко – вдруг подумал: как много прекрасных вещей можно было бы купить – шубу, книги, картину, еще Бог знает что, хотя когда они лежали в ящике, вовсе не собирался покупать ничего, а теперь казалось, что непременно все бы это купил.
Пришел в участок. Пристав принял подчеркнуто любезно, хотя, слушая меня, чистил ногти стальным перышком. Наигранное участие, разученное удивление. Про него в суде поговаривали, что он держал тайный дом свиданий для высших лиц города и вообще был заодно с ворами – имел свою долю в крупных кражах.
Когда я изложил ему, зачем пришел, он протянул портсигар:
– Курите?
И завел разговор вокруг да около, попыхивая папироской:
– Подобный случай был, когда я служил в Самаре, вот так же… Я перебил его:
– Но что же мне делать?
Он принялся объяснять сочувственным тоном, что деньги находятся труднее всего:
– Вот если бы, Александр Васильевич, пропали бриллианты, тогда другое дело…
Я сидел и все думал: сколько дать?
– У нас есть хороший агент, – продолжал пристав задумчиво, – но он занят. Столько дел! Сами понимаете…
Я положил на стол новенькую пятидесятирублевку.
– Что вы! Что вы! – любезно испугался. – Это наша обязанность!
Я замотал головой и придавил ассигнацию пресс-папье.
– Ну уж если вы так хотите, я не настаиваю и передам ему.
Мы раскланялись.
К вечеру в тот же день явился неприятный юркий тип. Глаза в толстых линзах очков скакали, как головастики. Такое ощущение, что он был слепой и ориентировался больше нюхом. И еще мелкие крысиные зубки. Все в квартире осмотрел, вернее обнюхал, и прямиком направился в комнатку за кухней, где жила Матреша.
– Открывай сундук!
Матреша даже задохнулась от возмущения, что ее подозревают в краже.
– Много вас таких по сундукам лазить!
Я хотел было вступиться, мол, как вы смеете, немедленно прекратите, но посмотрел на головастики и осекся. Он поковырял какой-то железякой в замке, сундук открылся. Матреша заголосила.
Агент покопался в ее вещах и вынул набитый чем-то чулок. Вывернул наизнанку – разлетелись купюры. Головастики впились в Матрешу:
– Где взяла?
Моя Матреша вдруг изменилась, выпрямилась, взглянула на меня сухими злобными глазами и ответила спокойно:
– Где взяла! У вас украла.
Я не верил ни своим глазам, ни ушам:
– Господи, да зачем же?
Она посмотрела на меня презрительно:
– Затем, что вы богатые, а я бедная!
– Да какой же я богатый!
– Нешто бедный?
Я просто не находил слов, чтобы объясниться с этой женщиной, которая жила у меня уже столько лет и была самым близким человеком моей Анечке.
– Так ведь грех же брать чужое, Матреша!
Она усмехнулась:
– А что мне-то делать? Нужно, вот и взяла. Вы не обеднеете, а у нас в деревне дом сгорел. Строиться не на что.
– Ну а если бы я взял твое, Матреша?
Она снова стала повторять свое:
– Вы богатые, а я бедная.
Тут из детской раздался крик. Матреша бросилась к Анечке. Ребенок в ее объятиях затих.
Агент получил мзду и перед тем, как исчезнуть, спросил:
– Заявлять будете?
Я замахал на него руками:
– Потом, потом!
Так все и осталось по-прежнему.
А Матреша начинала время от времени грозить, что уйдет, и я каждый раз еле уговаривал ее – из-за Анечки – остаться.
Она росла незаметно, тихо, неожиданно. Не успел оглянуться, а это уже не карапуз, а девочка. Раньше невозможно было ее заставить хоть что-нибудь съесть, приходилось чуть ли не скручивать руки за спиной, нажимать на щеки и заливать в раскрытый рот суп, а она бьется головой, выплевывает, вопит – вот тут-то суешь еще ложку, пока рот открыт, но суп, конечно, попадает не в то горло – ребенок давится, выпучив глаза, и так каждое кормление, а после все кругом в щах и каше: и стены, и пол. А теперь Анечка, наоборот, все тянула в рот, стала прожорливой, без конца что-то жевала, глотала, набивая свой мешочек. Голос становился отчего-то низким, грубым, а если что не по ней, так в гневе она вовсе делалась опасной: силенок было все больше, и вот начинала кусаться, драться, бросаться чем попадя. А когда ребенок плохо себя ведет, нужно быть строгим, наказывать, как наказывают и нормальных детей, но наказывать Анечку у меня рука вовсе не поднималась, так и прощал ей все, баловал.
До семи лет она все делала в штаны, но потом с ней стало намного проще. Она пошла. Теперь мы гуляли с ней за ручку, как самые обыкновенные папа с дочкой. Когда я ей что-то рассказывал, она все понимала, по крайней мере, я в этом не сомневался. Конечно, разговаривать в обычном понимании она не могла, но в ее репертуаре было несколько полуслов, которых вполне хватало для обозначения мира.
Я радовался, что постепенно, с годами, Анечка становится почти таким же человеком, как мы, что ее ничего от нас, в общем-то, не отличает, она тоже чувствует любовь, и радость, и счастье, и страх, даже, может быть, еще сильнее, чем мы, но объяснить это другим было совершенно невозможно. Куда ни придешь, вокруг молчание, смущенные взгляды, тяжелые вздохи. Брал ее с собой в кафе – люди сторонились, пересаживались, спешили расплатиться и уходили. В «Норде», помню, официант боялся, как бы Анечка чего не перевернула, отодвигал от нее все в глубь стола, и я так разозлился, что сам нарочно опрокинул на скатерть кофе.
Казалось бы, нужно привыкнуть, но привыкнуть к этому невозможно. Когда мы идем гулять, то какая-нибудь женщина спешно, увидев Анечку, убирает своего ребенка с улицы или кто-то смотрит, например, из окна, а увидев нас, прячется, обернешься – на тебя глядят из-за занавески.
Бывает, какая-нибудь сердобольная старушка подойдет, подарит ей замусоленную конфетку. Но как забыть такое: мы с Анечкой поднимались в один дом на лифте. Швейцар запер нас в этот тесный шкаф вместе с какой-то беременной дамой. Анечка всегда сторонилась чужих, а тут вдруг протянула ручку к ее животу. Женщина в ужасе отпрянула, попыталась убрать, защитить свой живот, вжалась в стену с зеркалом. Я, конечно, одернул Анечку, она заревела. Вот и носишь это в себе всю жизнь.
Мысль снова жениться или завести какую-то постоянную связь если и приходила в голову, то ничего, кроме страха перед новыми ненужными испытаниями, во мне не вызывала. Но вот в моей жизни появилась Лариса Сергеевна.
Я искал ремингтонистку, и ее рекомендовал мне кто-то из коллегии. Признаюсь, больше всего я боялся какого-либо пошлого романа с вытекающими из него сценами, обязательствами, обвинениями и всем таким прочим – так я устал от своей неудавшейся семейной жизни. Однако все получилось как-то само собой, без громких и пошлых слов, вернее, вовсе без слов.
Она приходила ко мне домой на час или два, и я диктовал ей, ходя кругами по комнате. Перестук машинки очень нравился Анечке, и она садилась рядом с Ларисой Сергеевной на стул и завороженно смотрела, как порхают ее пальцы по клавишам. Я диктовал по набросанным в блокнот заметкам и, останавливаясь перед зеркалом, поправлял галстук, выбившиеся запущенные пряди с ранней сединой и думал о том, что иски и апелляции – не рулетенбургские страсти, и Аня Сниткина, наверно, мало имела общего с этой немолодой дамой странной комплекции. Сыну Ларисы Сергеевны, которого она воспитывала без мужа, было двенадцать лет. Сама она напоминала мой графин на столе: сверху узко, а снизу все раздавалось вширь. Сидела на стуле, а по краям нависало. Расплатившись, я провожал ее до дверей, и было слышно, как она спускается с лестницы, будто скатывается, ударяясь о ступеньки, тяжелый деревянный шар.