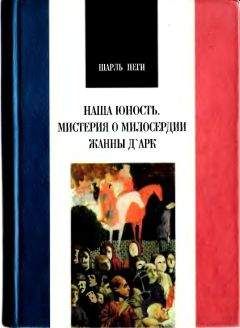Школьной компанией мы начали выпивать, как и полагается, классе в восьмом. Приблизительно год ушел на освоение «Фетяски», «Саперави» и вермута «Zarea», который всегда был в продаже в магазине «Бухарест» на Пятницкой. Водку пока пить как-то стеснялись, как-то это было не вполне комильфо, избыточно по-пролетарски в нашем снобском представлении, и явно, кроме того, требовало плотной закуски. В «Бухаресте» еще продавались вкусные десертные вина «Мурфатлар» и «Котнари», но их обычно покупали для по первости мнущихся девочек, которые, как скоро и навсегда выяснилось, пьют все, что предлагается, вне зависимости от возраста, социального статуса и личной привлекательности. Это их, оказывается, значительно раскрепощает и располагает располагать их на диване и располагать ими, – эй, эй, не лапать всем сразу, так не договаривались! Хе-хе-хе, – а мы разве договаривались? Налейте ей еще полстакана! Основных препятствий для скорейшего вовлечения в процесс обретения силы духа было два – родители и нехватка финансов. Первое преодолевалось просто – надо было протрезветь до прихода домой, – научились быстро. Изо всей нашей компашки пострадал только близкий к математическому вундеркиндизму Андрюша Ревенко, отец которого – видный деятель науки – вздрал его половником по тощей заднице, когда учуял неповторимой глубины падения аромат портвейна «Розовый» в сочетании с табачком и тонкой душистой струей недавнего легкого блева. Однако такого рода неизбежные эксцессы не могли остановить поступательного движения по спирали познания – так нельзя, невозможно остановить штопор, который начал уже входить в упруго сопротивляющееся тело пробки, выворачивая из извилистой скважины мелкие крошки. Финансовая проблема тоже оказалась разрешимой – «Яблочко», «Золотая осень», «777», «33», «Лiманьске солодке», «Биле мiцне», «Аромат степи» даже, а вот «Солнцедар» – это нет, это увольте-с, это чересчур. Сила духа дает ощущение внутренней свободы, которое немедленно во весь голос требует свободы внешней. Когда мы играли в преферанс на квартире у Димы Крылова в доме по улице Щепкина с видом из эркера на строящийся «Олимпийский» спорткомплекс, то проигравший должен был не петухом кричать под столом, не-е-т, ему следовало высунуться из окна третьего этажа и трижды провозгласить «Да здравствует нерушимая финско-китайская граница!». Проиграл Ревенко, но, помня о половнике, кричать отказывался. После доставания из кухонного шкафа аналогичного ревенко-отцовскому предмета он таки высунулся в окно, но стал орать: «Помогите! Хулиганы мучают!». Это было отчасти правдивым заявлением, поскольку хулиганы как раз в этот момент с оттягом охаживали его по тыльной части мирной кухонной утварью. Прохожие, тем не менее, только мило улыбались невинным детским шалостям, зная, что из этого окошка часто вылетают наполненные хорошо если водой треугольниковые молочные пакеты.
Основной базой нашего безобразия была квартира Андрюшки Галактионова на улице Островитянова, это в Беляево. Его родители находились в вечной командировке в Ираке, откуда поступали Андрюше чудные дивности – проигрыватели и магнитофоны «Панасоник», джинсы и всякое такое. Надзирала за Галактионовым старая бабка, готовившая еду и убиравшаяся в доме. Серьезного значения ее наличию никто из нас не придавал, да и отсутствовала она почасту. Сформировалась у нас тогда такая теория, что лучше всего выпить сразу как можно больше, до предела, потом сдать харча, и иметь чистый кайф без желудочного отягощения. Так и делали. Брали мы с ним бутылок шесть по 0,8 красного, выпивали стаканами через сигаретные паузы и минут через десять, когда вестибулярный аппарат отказывался участвовать в этом замечательном свинстве, я отправлялся в сортир стоять на коленках возле белого друга, а Галактионов шел на балкон. Там в шкафчике покоились чисто вымытые с прошлого года трехлитровые банки, которые бабка хранила под помидоры-огурцы-компоты, и горками лежали пыльные пластиковые крышки. Не приученный к тяготам уборки, Андрей аккуратненько блевал в банки, закрывал их крышками во избежание турбулентного вытягивания содержимого во время полета с одиннадцатого этажа и бросал вниз, на пустынную тогда местную автодорогу. Надо признаться, банки лопались внизу очень красиво, розовыми пятнами раскрашивая унылое снежно-ледяное покрытие. Хорош был и звук, как если электролампочку раздавить, обернув полотенцем, только намно-о-го громче, даже вспомнить приятно.
Силы духа становилось все больше, а мозги у нас работали по большей части вхолостую, – другие части и органы тела требовали своего, – ну что же, возраст такой. Хотя Закон Божий нам и не преподавали, формулу «какою мерою меряете, такою отмеряется и вам» я познал уже в шестнадцать лет. Справляли 7 Ноября у Галактионова довольно большим кагалом, с девицами, ну я и накушался от избыточной полноты жизнерадостных ощущений. День был холодный, с резким повизгивающим на поворотах ветром, неустанно долбившим в окна, как добрые большевики в перекопские укрепления злых белогвардейцев. «Еврейский клапан» сработал неожиданно – я едва успел выскочить на балкон. Дело пошло, но энергии выталкивания хватало только выплеснуться, празднично-коммунистический ветер сшибал сдаваемый харч на балкон этажом ниже. Я об этом узнал уже завтра из телефонного монолога Галактионова, который в крайне мягких, недопустимо вежливых матерных выражениях поведал мне о том, как он два часа, использовав десять ведер горячей воды, мыл нижнесоседский балкон, где все извергнутое моим организмом замерзло в лед, так как было сильно ниже нуля. Через полгода отмечали у меня окончание десятого класса. Родители мои, тогда еще сохранявшие странные иллюзии в отношении морального облика отпрыска, уехали вместе с остальными членами семьи на дачу. Милая компания бывших теперь одноклассников пила уже водочку, плохо пока осознавая, что запивать ее мадерой, скажем, или даже сухим вином не очень-то и здравосмысленно. Ближе к утру мне удалось избавиться от всей видимой части последствий, – не мог же я предположить, что потом, когда родители вернутся, остатки кем-то выдавленного из себя не по капле, а с мощным рыком, обнаружатся внутри тапочек, стоявших в прихожей, и что Диме Крылову пришло в светлую голову описать занавески на кухне? В восемь утра по московскому времени почти проспавшийся Галактионов вышел на балкон, выпил бутылку загодя припасенного пива, поискал, куда бы ее запихачить и обнаружил мешок, в котором хранились отходы производства силы духа нашей семьи – штук сорок пустых бутылок. Видимо, он вспомнил о своих трехлитровых банках и о помывке балкона соседа снизу в результате моего недостойного поведения. Свою пустую бутылку он аккуратно опустил в мешок, потом поднял дерюжную емкость на край балконного ограждения и, наслаждаясь видом на крыши зданий московской прокуратуры, вывалил бутылки вниз. Дворник Института океанологии к этому времени закончил разметать площадку перед воротами почтенного научного учреждения (приблизительно 150 кв. м), во дворе которого, видимые с высоты нашего двенадцатого этажа, всегда ржавели два-три батискафа. Не берусь передать ощущения этого достойного человека, когда странноватый ливень из пивных и водочных бутылок хлынул с сорокаметровой высоты, и асфальт площадки при близком к симфоническому грохоте заискрился стеклянными брызгами, как поблескивает горнолыжный для гигантского слалома склон в каком-нибудь Кютцбюэле под апрельским солнцем. Зато я могу точно описать последующие действия дворника, так как это совсем нетрудно, – он вызвал милицию.
Студенческие мои годы вместили увлечения сладкими креплеными винами – «Айгешат», «Геташен», «Октемберян», крепким молдавским хересом, похожим даже на мансанилью, послаще только, молдавским коньяком. Много было пито пива, дрянного советского «Ячменного колоса», жидкого «Жигулевского», крепковатого с горчинкой «Московского», неплохого, но редкого «Рижского». Пили от безденежья или для разгону болгарские сушняки, но основой развлечений уже неотъемлемо стал отвратительный в ту пору национальный напиток – «Русская», «Пшеничная», чуть позже появившаяся «Сибирская». Были еще, конечно, и разные совсем дряни, ведь надо же было государству куда-то девать отходы нефтяного производства, – горькие настойки «Имбирная», «Стрелецкая», «Степная» – это, я вам скажу, да-а. Фантастическое пойло, как нельзя лучше характеризовавшее стремление пролетариата к лучшей жизни и неудачу его в творческих поисках. Цветные водки – «Киевская», «Лимонная» и примыкающая к ним белая «Кубанская» – были редкостью. Лакомством служила черешневая венгерская «Палинка». В совсем уже вые…стых вариантах можно было купить рому. Коньяку было много, и хорошего притом, – я больше всего любил «Варцихе», но чаще всего это было не по карману.
Молодые еще тела позволяли себе на пути к силодуховым высотам претерпевать разнообразные приключения, значительно большая часть которых была характера неприличного, – так планируемая тихая дружеская вечеринка продолжается разухабистой голосистой пьянкой и завершается откровенным уже непотребством, если смотреть с точки зрения трезвого разума, – коротко говоря, мирные демонстрации регулярно перерастали в факельные шествия. Как, например, мирные обыватели могли воспринять такое зрелище – трое высокоинтеллектуальных юношей стоят на трамвайном повороте (угол улицы Радио) и, дружно писая на проходящий трамвай, опытным путем проверяют, пробивает ли электричество на трамвайный корпус, если замкнуть его посредством жидкостной струи с колесом и рельсом? А угон могучего компрессора, к которому дорожные рабочие присоединяли отбойные молотки, и поездка на нем, разгоняемом вручную, от площади Красных ворот до Курского вокзала? А я, сидящий в городе Руза на вершине березы рядом с Домом пионеров и чирикающий, будучи в твердом убеждении, что я – воробей? А там же в Рузе игра в партизаны по строительным траншеям с голыми электрокабелями и последующее купание в апрельской реке? И-эх-х, было, было, и бывшее сделать не бывшим никакой возможности нет, да и надо ли? И ведь что интересно, пили-то без удовольствия по преимуществу, просто потому что так было надо, принято, положено; по-настоящему ощутить приятность от употребления вовнутрь тогда еще дано не было.