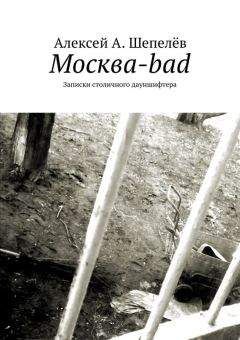Надо ли уточнять, что по обходному листу бдительные омоновцы (не путать с лимоновцами!) не хотели меня пускать за свой кордон из раскладушек, пришлось буквально прорываться…
Когда я отлавливал кого-то значительного в ГИМе, мне довелось целый час просидеть в предбаннике, где восседают элитные, можно сказать, менты и проверяют документы. Сидят они, естественно, на стуле за высокой стойкой, а не на стульчаке, но всё равно непередаваемое ощущение сквозит и в их действиях, и в быте…
Спросив по разу, что я тут сижу (в холле на диванчике), они начали заниматься своими делами: под гул отвратительнейшей попсовины из телевизора вести философические диалоги.
– Слыш, скоко время-то?
– Скока. Вон часы, а вон на башне. Без десяти двенадцать токо (вздыхает, ёрзает и даже крутится на стуле, щёлкает авторучкой – или, может, ногти тоже подрезает).
– Обедать во сколько пойдёшь, в час?
(Я обрадовался, что хоть запаха «Дожирака» не вступит в действие.)
– В час.
Молчание, один выходит, другой входит (все бросая при том взгляды на меня), отдирают липучки бронежилетов, небрежно скидывая, меняясь ими и, кажется, кобурой. Ощущение, я вдруг понял, как от змей или скорпионов за стеклом террариума: вроде бы и безопасно…
– Пугачиха-то, слыш, слыхал, что вчера учудила с Галкиным?
– Максим уж староват для неё, ей теперь надо… (и дальше что-то глубокомысленно неприличное).
– Слыш, а Толян во скоко пойдёт, не знаешь? Толян!
– А.
– Во скоко пойдёшь?
– В час, наверно. Как всегда.
– До часа ещё целый час! Пойдём щас, слыш? Снимай эту хрень. Павлов посидит, посидишь? Посидишь.
Я думал, что в этот самый миг где-нибудь в сибирском посёлке какие-нибудь мужики, выпивая, почтительно гутарят: «Да там охрана, что ты!.. Там – Москва!»; а тут – скукотища: разболтанные на застёжках бронежилеты, хоть мух на эти липучки лови, а одной, образно сказать, на троих кобурой орехи колют.
В одном из отделов привязалась какая-то тётка, вычитавшая в представленной на подпись бумажке про учёную степень: «Вы походите по отделам, по коридорам – может вас кто-то куда-то возьмёт. Я же вот себе работу нашла… Сначала просто на входе сидела, ко всем бумаги носила, чай пить приходила, а теперь – начальник…» И это она на разный лад повторила раз десять! Я сухо благодарил её за сердобольность, пытаясь донести хотя бы чисто формальную невозможность такого плана: как мне ходить, когда я на работе, моё дежурство кончается в семь, когда здесь никого уже нет, а когда уволюсь, меня уже на порог не пустят… да и вообще…
Особым комизмом (а на самом деле и нервотрёпкой) обернулись поиски некоего прораба (или, может, начальника участка или завсклада – какое-то типично строительское звание, совсем не помню), чья локализация приходилась на дворик гимовского здания-лабиринта, стоящего буквой «П». «Где-то там, в будочке», – и показала в окошко… Вот всё, что можно было узнать от усатой бабки.
Первую проблему – как попасть в этот дворик – я решил довольно быстро за счёт военного стола им. А. Невского: завернул к дедам и, начав выслушивать напутствия, прервал их вопросом о выходе во двор и будке прораба. О загадочном прорабе они никогда не слышали, а вывести один дед вывел (сам я вряд ли нашёл бы!). У одной из неказистых кирпичных будок, прочитав нечёткую и казуистскую вывеску и поняв из неё, что до 14:30 придётся минут сорок обождать, я и примостился на жаре на корточках покуривать… И названивать по сотовому вечно недоступным искомым столоначальникам.
Во дворе царил полный бедлам, как будто это не Красная площадь, а советско-гастарбайтерская – не только смешение языков, но и времён! – стройплощадка в посёлке под Красноярском. Пробегающие (полуголые в спецовках и касках) меня окликали, что я тут делаю. «Начальник участка – это там!» – показал один в сторону стройки.
Кругом работали отбойником, резали и варили, а я, маневрируя по досточкам и оря всем в уши и подставляя свои, прошёл, как в компьютерной игре, таких площадки три (в том числе миновав и привычного вида закопчённого товарища, который всё же изрёк: «Нэт, нэ падпишу»), пока, наконец, мне не предложили спуститься в подземелье…
Пролез за провожатым в узкий лаз и старался не отставать, с такой же, как и он, быстротой передвигаясь уже в полуосвещённом душном лабиринте с низким потолком и торчащими под ногами и над головой железяками… Он, сам в каске, только бросал на ходу: «Осторожно, голова!» – чтоб я не треснулся о балку, «Осторожно, ноги!» – чтоб не слетел с доски в утыканное арматуринами пространство.
Нам попадались нары, развешенное бельё, батареи бутылок и залежи мусора. У меня мелькнуло: «и быт ночлежки предо мной предстал», и тут как раз мы остановились пред неким подобием стола из бетонного блока и всяких нехитрых кухонно-офисных приспособлений. В знакомом специфическом запахе помимо табачного угара угадывалось и кисловатое присутствие алкоголя. Трое загорелых мужиков с оголёнными торсами, все потные и пыльные, видимо, дежурные, готовили обед из консервов, одноразовой лапши и хлеба… «Спит он», – ответили нам, щёлкнув пальцем по горлу, но провожатый настоял, что дело важное, пришли, мол, из ГИМа.
Я уже давно смекнул, что все попавшиеся мне строители никакого отношения к музею не имеют, но углублялся в народную гущу и катакомбы (впрочем, не большие) лишь из полуосознанного любопытства.
Вышел заспанный такой мужичина с голым торсом – настоящий работяга, видавший виды человечище, русский из русских. И все тоже обратили свои взоры на меня…
Прораб надел очки и долго изучал бумажку.
– Я, конечно, могу подписать… – наконец, произнёс он, огладив усы, подняв на лоб (в разводах грязи – как и живот) очки с засаленными шнурками.
Тут была и серьёзность, и лукавство, и доброта, и знание, и готовность помочь. Казалось, меня сейчас запросто пригласят к столу, дадут похлёбки с хлебом, нальют стакан, и все проблемы царящей наверху казуистики разом рассеются.
Мне вдруг нестерпимо захотелось остаться в этих загромождённых подвалах и жить и работать с этими мужиками.
Выход из двора я искал долго (в одной из будок сказали, что искомый начальник здесь, но приходите завтра, а может, послезавтра с самого утра), и наконец, на свой страх и риск вынырнул из ментовского прохода прямо за их конторку! Охранник чуть не подавился «Роллтоном», полувскочив, схватившись, как ударенный током, за кобуру и телефон…
Неоднократно в соборе проводились съёмки всяких претендующих на познавательность телепередач, а я при этом выставлялся на охрану попавшего в кадр пространства. Но настоящим подарком судьбы для меня стал день, когда привезли старые иконы и выставили их перед алтарём главной церкви. Пять больших образов без окладов, поставленных, будто картины на мольбертах, прямо на дощатом амвоне. Позже из репортажа НТВ я узнал, что это недавно отреставрированные иконы из исконного иконостаса церкви Покрова Богородицы, случайно обнаруженные в 1920-х годах в церквушке в тверской деревне Свистуха и около столетия пролежавшие в гимовских запасниках. А в сам тот день я мало что понимал: просто появились иконы, а потом телевизионщики, на заднем крыльце готовился банкет для высокопоставленной делегации…
Для публики доступа не было, только для журналистов, и я как раз принуждён был таковое обеспечивать. Насколько я помню, святыни привезли уже под вечер, и почему-то помню, что было ещё холодно (хотя найденный в Сети сюжет энтэвэшников датирован маем, и вроде бы при его съёмке я маячил за кадром, греясь.) Возможно, это был уже второй репортаж и второе выставление икон, точно не помню. Или в начале мая на втором ярусе ещё стояло, слегка подтаивая, зимнее эхо… Мне вспоминается вот что: последняя часть дежурства, приличный холод, темновато вечером, что-то привезли, спешно моют обычной грязной тряпкой амвон… довольные музыканты сматывают удочки…
И вот – перекрыв по команде доступ публики, я вдруг очутился с только что внесёнными артефактами один на один… Мало того: когда истекло время, меня попросили подежурить ещё!
Собор опустел, свет, где можно, повыключили, никого ещё не было… Задубевший, голодный и разозлённый, я сновал по кирпичному полу церкви-музея от края до края… И вдруг – на уровне ног почти – увидел… лики! Древние, написанные сдержанными, давно непривычными нам красками, но сияющие и свежие, будто только что омытые дождём… Я понял, что никого вокруг нет (возятся на первом этаже, изредка кто-то тенью прошнырнёт за фигурной решёткой и здесь), что сил почти нет, но зато есть – они, лики, и то, что они обозначают. Я стал молиться, сам по-прежнему прохаживаясь, и мне стало получше и даже… теплее!