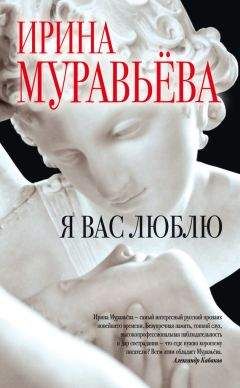А потом они оба предали её: и муж, и Василий. Она не притворялась, когда кричала, что сын её предал, переметнувшись целиком на отцовскую сторону. Она не хотела слушать никаких доводов, которые приводил ей муж, объясняя, что мальчики необходимо сближаются с отцами и отдаляются от матерей по мере своего взросления. Он предал её, этот мальчик. Она отказалась от человека, которого готова была полюбить со всей нерастраченной силой, только потому, что испугалась нарушить покой этого мальчика, испугалась того якобы возможного и, скорее всего, вымышленного вреда, который могла причинить ему, она ведь осталась ни с чем и одна, а у мужа вскоре появилась любовница, и сын, когда мать его всё же уехала, вздохнул с облегченьем. Она им мешала! Отдавшая жизнь, она всем им мешала!
Слава Богу, что началась эта война, которая помогла ей спрятаться. Они получили телеграмму о её смерти сразу после объявления войны. Все пути были отрезаны. То, что после этого известия Василий может записаться на фронт, не приходило ей в голову: в её сознании он продолжал быть ребёнком, а дети в войне не участвуют. Но он ушёл на войну, и мысль, что она своим диким обманом виновата в этом, начала разъедать её. Душа кровоточила так же – нет, больше! – чем в те времена, когда она с ними боролась и их побеждала. Вернее: когда она их испугала. Помучила, бросила и настрадалась.
И мальчик её стал солдатом, пошёл на войну, где людей убивают. Его тоже могут убить, изуродовать. Во сне она много раз видела, как он ползёт к ней по очень зелёной и сочной траве, и у него нет обеих ног. Трава из зелёной становится красной. Ещё страшнее был другой сон: она купала его в ванночке, радостно и любовно поливала из ковшика его ярко-рыжую детскую круглую голову, и вдруг он начинал таять прямо в её руках, как будто кусок земляничного мыла. Она хваталась за его руки, ноги, обнимала его, пыталась схватить даже за уши, но он становился всё меньше, прозрачнее, он был уже частью воды, а она всё кричала, всё пенила эту ужасную воду, искала его и кричала, кричала…
Почему-то ей казалось, что, как только она снова окажется в Москве, он тут же приедет и ужас их кончится. То, как она объяснит свой обман, как встретится с мужем, у которого давно уже есть своя жизнь, почти не волновало её. Да разве всё это имело значенье в сравнении с тем, что ребёнок вернётся?
Теперь он вернулся. Вместо одной войны началась другая. Люди, нелепо разделившиеся по цвету у всех одинаковой крови – на красных и белых, – опять убивали друг друга. И есть было нечего.
Опять они жили втроём: отец, мать, Василий. Но только он был не ребёнком. Он спал теперь сутками, много курил и с нею едва разговаривал.
Её давний сон повторялся: он таял.
Александре Самсоновне Алфёровой не приходило в голову подозревать мужа в скрытности. Особенно теперь, когда вся жизнь их была оголена и лежала на их же собственных ладонях, как будто чужое, только что народившееся, не человеческое и не животное существо, за дикими гримасами и судорогами которого угадывалось его происхождение. Но муж её что-то скрывал, это ясно.
В марте в Москву приехал давний знакомый Алфёровых – архимандрит Кронид, в миру Константин Петрович Любимов, бывший наместник Троице-Сергиевой лавры, человек замечательный, о котором Александра Самсоновна впервые услышала ещё девочкой, когда её дядя, знаменитый петербургский психолог профессор Введенский, объявил себя духовным чадом архимандрита Кронида. История знаменитого дяди вкратце была следующей: прослушав курс лекций Куно Фишера в Гейдельберге и заразившись его скептицизмом относительно тех философов, которые, как говорил язвительный толстяк Фишер, «рассматривали несчастия человечества через бинокль, расположившись в удобном кресле», отчаянный дядя Введенский решил разработать и дальше учение своего германского наставника и круто пошёл по горе идеальной духовности. «Всякая душевная жизнь, – заявил вскоре Введенский (а было начало войны, и уже начали применять ядовитые газы!), – зависит только от наличия нравственного чувства. Последнее же связано с нравственным долгом, верой в бессмертие души и существование Бога». Вот тут-то, когда на него обрушились со всей молодой своей яростью сторонники экспериментальной психологии и прочие крупные материалисты, пришлось прибегнуть к советам архимандрита Кронида, проповеди которого отличались особой какой-то сердечностью и целиком основывались на Священном Писании. Нежная и почтительная дружба, связывающая опального по наступившим временам архимандрита и опального философа, продолжалась много лет и оборвалась со смертью последнего.
Приехав в Москву, Константин Петрович Любимов попросил позволения прожить неделю в доме Алфёровых. А больше и негде: тяжёлое время. Основной же причиной приезда в Москву были невообразимые безобразия, творимые в Троице-Сергиевой лавре и начавшиеся сразу же после выхода декрета Совета народных комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».
– Думал: похлопочу, – печально сказал высокий и крепкий, как дуб, архимандрит. – Теперь понимаю, что зря я приехал. Они даже время меняют.
И правда: во всём началось своенравие. Сперва переместили календарь на тринадцать дней. В приказном порядке после 31 января немедленно последовало 14 февраля. Куда делись остальные февральские денёчки одна тысяча девятьсот восемнадцатого года, о том было лучше не спрашивать. Ну, делись и делись. Февраль оказался весьма неказистым: всего-то пятнадцать смущённых рассветов. Коротеньких, тусклых, однако метельных.
Успел записать живший в том же Посаде распухший от голода Розанов:
«…У меня есть ужасная жалость к этому несчастному народу, к этому уродцу-народу, к этому котьке – слепому и глухому. Он не знает, до чего он презренен и жалок со своими «парламентами» и «социализмами», до чего он есть просто последний вор и последний нищий. И вот эта его последняя мизерабельность, этот его «задний двор» истории проливает такую жалость к Лазарю, к Лазарю – хвастунишке и тщеславцу, какой у Христа и у целого мира поистине не было к тому евангельскому великолепному Лазарю, полному сил, вдохновения и красоты. О, тот Лазарь сиял. Горит в раю и горел в аде. А на этом моем компатриоте – одни вши. И вшей… Но… а, ну его к чёрту!» (февраль, 1918 г. Сергиев Посад).
Потом пришёл тиф прямо в Лавру, унёс с собою более трёх тысяч человек, вздохнулось свободнее: меньше голодных. Потом добрались до мощей. Узнавши, что мощи преподобного Сергия будут подвергнуты осмотру со стороны властей, архимандрит Кронид бросился в Москву просить защиты.
За обедом – картошка, немного селёдки и оставшееся с лета варенье из крыжовника – архимандрит зачитал Александру Данилычу и заплаканной Александре Самсоновне только что написанное им письмо, которое он собирался направить председателю Совнаркома.
– «…не место здесь говорить, – сильным и прекрасным голосом, богатство которого только усиливала горечь, читал Константин Петрович, – чем является Преподобный для нас и других верующих и сколько признания находит также и в среде неверующих как великий исторический деятель, как пример любви и кротости, тех нравственных начал, на которых только и может строиться человеческая жизнь в её личном проявлении и в общественно-государственном. Отсюда понятно, как дорог для нас, для общества, для Русской Церкви Преподобный Сергий и всё, решительно всё, связанное с его памятью».
На этом месте письма Александр Данилыч внезапно вскочил со своего стула, обеими руками схватился за голову и отбежал к окну. Мелкие следы на снегу чернели, как пятна подсохнувшей крови.
Архимандрит перестал читать.
– Что вы, Александр? – понижая голос, спросил он. – Вам не нравится что-то?
– Константин Петрович, – так же тихо, не вынимая пальцев из своих густых волос, ответил ему Александр Данилыч, – не помните вы разве, как сказано у святого Апостола? «И тогда откроется беззаконник – тот, которого приход по действию сатаны будет со всякою силою…»
– Да, помню, – с силой сказал архимандрит. – И больше скажу вам: напрасно пишу и напрасно приехал. И знаю про них всё, что вы про них знаете. Так что же нам делать?
– Я никогда в политику не совался, – с некоторой даже брезгливостью пробормотал Алфёров. – Но это уже не политика. Поэтому мне и придётся…
Он посмотрел на жену, которая, бледнея, медленно приподнималась из-за стола, и замолчал.
– Нет, ты доскажи, – попросила Александра Самсоновна, – а то что у нас за секреты?
– Давай лучше чай пить, – оборвал её Александр Данилыч. – Ведь есть же у нас кипяток? И варенье осталось? Вот это прекрасно! Варенье я, кстати, люблю больше сахара…
Через неделю архимандрит вернулся обратно в Лавру, где вскоре ликвидационная комиссия в составе шести человек, из которых трое были матросами, двое недоучившимися семинаристами, а женщина (верный товарищ по партии) прошла унижение, вроде как Грушенька, за что ненавидела старый порядок и мстила ему так, как мстят только женщины, – ликвидационная комиссия эта опечатала храмы и кельи, и ночью всех лаврских монахов погнали из Лавры. Лавру же решили переименовать. Сначала хотели в Толстовск. Тут, конечно, сыграло огромную роль отлученье от церкви, но Бог уберёг от такого позора.