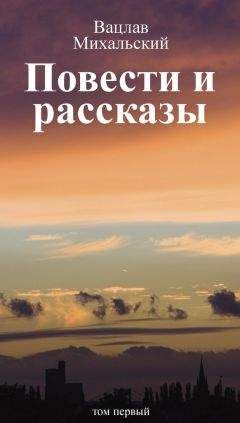Вацлав Вацлавович, когда этот страх небытия исчез у Вас и что пришло ему на мену?
ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. У живого человека не может исчезнуть страх небытия. Он может притупиться и, как правило, притупляется. Но это другое дело.
ЮРИЙ ПАВЛОВ. Слово «Бог» употребляется в эпопее «Весна в Карфагене» 394 раза. Гораздо чаще, чем в предыдущих произведениях Михальского, и понятно почему. Однако и ранние рассказы, повести, где слово «Бог» отсутствует или предельно редко встречается, религиозны, православны по своему смыслу: по системе утверждаемых героями ценностей, по позиции автора. Эта органичная, «растворенная» внутри всех произведений православность (не имеющая ничего общего с ныне модной внешне-показной «православностью») отличает Вацлава Михальского от подавляющего большинства писателей-современников и роднит его с такими авторами, как Юрий Казаков, Николай Рубцов, Василий Белов, Александр Вампилов, Виктор Лихоносов, Леонид Бородин…
Откуда этот заряд человеколюбия, христианского гуманизма у юноши, воспитанного в советском обществе, юноши, написавшего свои первые рассказы в десятом классе? И как удалось позже, в 60–70-е годы, не сломаться, остаться верным себе, верным главной традиции русской классики?
ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Никогда не задавался этими вопросами. Я просто жил себе и жил, наверное, мне повезло.
ЮРИЙ ПАВЛОВ. Мария Мерзловская – наиболее созвучный Вацлаву Михальскому герой эпопеи в романе «Одинокому везде пустыня» – размышляет: «Но ведь не все утекает в бездну, что-то остается в душе и в памяти? Хотя зря, что ли, писал Державин: “А если что и остается чрез звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы”. Значит, остается только чрез звуки лиры – поэтов, писателей, музыкантов и трубы – имеется в виду боевая труба, призывающая на битву, то есть через военных, а вся остальная жизнь, та, что посередине этих двух стенок в чаще бытия, просто намешана, как фарш, и просто перерабатывается из одного состояния в другое, без славы и без памяти… Обидно! Но близко к правде, очень близко… хотя…»
Можно предположить, что в этом высказывании выражена часть ответа на главный вопрос, которым задается Вацлав Михальский на протяжении всего своего творчества: куда утекает время? Суждения героини дают неполный ответ на данный вопрос, о чем, в частности, свидетельствует слово «хотя». Вот об этом «хотя» и хотелось услышать.
ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Полного ответа на этот вопрос ни у кого нет, и раньше не было. Хотя кто его знает, что будет дальше…
Если же говорить о моей героине, то мне было очень важно передать цельность ее натуры, которая досталась ей от прототипа: графини Марии Александровны Мерзловской. Не буду долго распространяться. Думаю, читатель все сразу поймет из письма Анастасии Александровны Манштейн-Ширинской. Я получил его после выхода двух первых книг эпопеи и, с Вашего разрешения, приведу его здесь полностью.
ЮРИЙ ПАВЛОВ. Немало авторов XIX–XXI веков изображали море в своих произведениях. Я, чье детство и юность прошли в Геленджике, думаю, что лучше других это сделали Валентин Катаев и Вацлав Михальский. Они сумели передать все – слышимые и неслышимые – регистры дыхания и – видимые и невидимые – движения души этой совершеннейшей природной стихии.
В произведениях Вацлава Михальского десятки замечательных морских пейзажей разного объема, не повторяющих друг друга (художественная память у писателя удивительная). Суммарно из этих морских зарисовок можно составить небольшую «повесть» (вообще же хорошо было бы составить словарь языка Вацлава Михальского: интереснейшее и увлекательнейшая книга получилась бы!).
Я приведу лишь фрагмент из этой «повести»: «Пологие, накатистые волны с шипением отбегали по зеркально светящемуся песку, на котором лопались радужные, ослепительные пузыри и от плотной, мокрой глади которого веяло йодистой свежестью всего моря, радостью целой жизни, дыханием полного счастья, которое дается человеку только один раз, один-единственный. Вдруг блеснула серебристым боком тарашка, и тут же ее накрыло пеной новой волны, подсекло отливной тягой и, вертя, утащило в пучину. Точно так же, как унесло взбаламученной водою тарашку, смывало навсегда следы босых Катиных ног» («Тайные милости»).
Вацлав Михальский удивительно тонко чувствует и художественно-совершенно изображает любые природные стихии – от пустыни до моря. При этом писатель давно уже не живет на море.
Вацлав Вацлавович, как Вам удается сохранить это живое ощущение моря?
ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Лучше всех описал море маленький гимназист из рассказа Чехова: «Море было большое».
ЮРИЙ ПАВЛОВ. Антуан, муж Марии Мерзловской («Для радости нужны двое»), в старших классах кадетского училища неожиданно для окружающих из гадкого утенка превращается в прекрасного лебедя. Нечто подобное произошло и с Вацлавом Михальским в студенческие годы. Превращение Антуана его отец объяснил породой. Вера деда Адама в Вацлава держалась на всепоглощающей любви и чувстве все той же породы («Адам – первый человек»).
У отпетого двоечника Вацлава Михальского были, конечно, предшественники из числа великих писателей. Назову лишь Марка Твена, Николая Некрасова, Ивана Бунина. Последний и гимназию даже не окончил и, вспоминая уже о своих первых литературных опытах, говорил, что так плохо, как он, в литературе редко кто начинал.
У раннего же Михальского меня поражает отсутствие ученических, проходных, провальных текстов (которые были даже у его любимого А. П. Чехова). А с повести «Баллада о старом оружии» (автору было всего двадцать пять лет) начинается бесспорно «классический» этап в творчестве Михальского.
Возникает дурацкий – с точки зрения распространенной логики – вопрос: как совмещаются двоечник Михальский и его «Семечки», «Бим-бом», «Дождь»?.. Какое место в судьбе писателя занимают порода, Божий дар и то, что назовете Вы сами, Вацлав Вацлавович?
ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. По-моему, этого никто не знает.
ЮРИЙ ПАВЛОВ. В «Весне в Карфагене» Анна Карповна, представительница главного типа женщины в мире Михальского, так характеризуется писателем: «Она была при детях до такой степени, что даже не ощущала себя как отдельно взятого человека». По сути, то же говорит Михальский о бездетной француженке Николь: «она была подлинной женщиной, и ей всю жизнь хотелось вложиться в кого-нибудь без остатка».
Вацлав Вацлавович, желание и способность раствориться в другом без остатка – это только женское качество? И не кажется ли Вам, что число «подлинных женщин» в современном мире катастрофически исчезает?
ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Нет, не кажется.
Бесспорно, что в самом существе женской природы есть потребность в жертвенности, есть желание вложиться. Но было бы в кого вкладываться, вот не праздный вопрос. В унылого тютю, в безвольного балабола, в бездарного алкаша, в жестокосердного хапугу… и далее по списку.
С женщинами все в порядке, а вот с мужчинами есть проблемы. Во-первых, их вообще мало, во-вторых, те же женщины слишком расслабили мужчин, сняли с них всякую ответственность, одни только «гражданские браки» чего стоят.
ЮРИЙ ПАВЛОВ. Вацлав Вацлавович, как шла работа над романом-эпопеей? Вы разрабатывали ее план?
ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ. Планов я не разрабатывал. В архивах не сидел. Своих героев не направлял – они сами шли, куда хотели. И меня это радовало. Потому что если персонаж живой, настоящий, то его без толку куда-то направлять по авторской воле. Живой персонаж еще и автора удивит. Помните пушкинское: «А моя Татьяна какую штуку выкинула – вышла замуж». Пушкин это не выдумал, а только принял к сведению совершенное героиней как бы помимо его воли.
В набросках к «Войне и миру» Лев Толстой дает пять срезов, пять направлений, по которым разрабатывается каждый персонаж:
1. Имущественное,
2. Общественное,
3. Любовное,
4. Поэтическое,
5. Умственное.
Начав писать свой цикл романов, сложившийся затем в эпопею «Весна в Карфагене», я подумал, что если речь идет о романной форме, претендующей на полноту представлений, то эту толстовскую подсказку всегда надо иметь в виду.
ЮРИЙ ПАВЛОВ. Герои эпопеи «Весна в Карфагене» по-разному варьируют следующий тезис: история пишется победителями. Применительно к главному событию XX века – Второй мировой войне – уже 9 мая 1945 года этот тезис получает реальное воплощение. О взятии Берлина «радиостанции союзников неоднократно извещали <…>, но о том, что германскую столицу взяли русские, упоминали не во всех сводках, а если и упоминали, то без подробностей, вскользь».