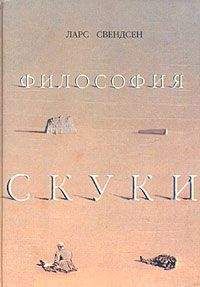Ты уже не ребёнок, понимаешь, что счастье – иллюзия, синяя птица, в погоне за которой проходит жизнь. А если признать своё заблуждение? Что останется? Петля? Пистолет? Незавидный выбор, и человечество бы давно вымерло. Я понимаю, всем плевать на род человеческий, будет он после него или нет, и всё же для собственного спасения лучше присмотреть что-нибудь из традиционного списка.
Классификация иллюзий по сложности их создания, а стало быть, распространённости:
1) Материальный достаток, когда хозяин становится приложением своего дома, а дом стремится стать полной чашей. Счастье, эта неуловимая категория, обретает вполне осязаемые, количественные характеристики, его полнота измеряется в сумме банковского счёта, женщинах (мужчинах), с которыми провёл ночь, коллекции виз, собранных в заграничном паспорте. Эта иллюзия имеет глубокие биологические корни, произрастая из борьбы за существования, и позволяет провести отпущенные годы, не мучаясь вопросом «зачем».
2) Семейное благополучие, когда мир сужается до своего дома, а бытие обретает черты привычного быта, бесконечные проблемы которого защищают от страха смерти, позволяют раствориться, размазать своё «я», увидеть его частичку в своём биологическом продолжении. Свойственная в прошлом больше женщинам, эта иллюзия, обещающая видовое бессмертие, оказалась удобной и для мужчин, также нацеленных вить гнездо. Обычно этот миф разделяют с первым, к которому он тесно примыкает, и оба они охватывают подавляющее число гомо сапиенсов.
Вагон с грохотом тормозит, оторвавшись от чтения, Устин, опасаясь проехать, переводит взгляд в окно, где пассажиры выстроились в очередь перед трамвайной подножкой.
На долю оставшихся, а они составляют ничтожное меньшинство, как и любое отклонение от нормы, выпадают иллюзии экзотические.
3) Творческая радость, мгновение просветления, как в дзене, ради которых стоит жить. Это сопровождается верой в культурный прогресс, безумной надеждой обессмертить себя, оставив в нём след. Эта разновидность паранойи не поддаётся лечению, никакие аргументы не воспринимаются. Из своего опыта скажу, что неоднократно приводил в пример гениальных усовершенствователей парусных кораблей – кто их помнит? – но натыкался на глухое непонимание.
И, наконец, иллюзия номер
4) Служение людям, когда личное счастье связывается с всеобщим. Она требует развитого абстрактного мышления, поэтому встречается крайне редко. Равно, как и иллюзия загробного воздаяния. Конечно, я говорю не о тех, кто разделяет психологическое удобство этой иллюзии, людях первой и второй категории. Требующая жертвенности, она несовместима с первыми двумя.
Вот и весь мир наших иллюзий, выбирай.
Впрочем, я слишком хорошо тебя знаю, чтобы врать, у меня нет для тебя рецептов, чем умствовать, попробуй вернуться в постель к жене, нами правит физиология, глядишь, всё и наладится.
Перед тем как подняться в квартиру, Устин долго сидел у подъезда, глядел на ворковавших вокруг лавочки грязных голубей и думал, что в перечне Грудине упущена ещё одна возможность, пятая, жить без иллюзий.
– Как прошло, дорогой?
Жена встретила на пороге, на ней вызывающе открытое платье, она подвела ресницы, накрасила губы. Раньше она этого не делала. К чему бы? Неужели они и здесь сговорились?
– Лучше некуда. Теперь я неделю свободен.
Секс как насилие?
Секс как удовольствие?
Секс как самоутверждение?
Сколько угодно!
Но секс как процедура…
Устин снова превращается в незнакомца, который носит его фамилию.
В одну женщину можно войти и дважды, и трижды, и каждый день, но входить бесконечно нельзя.
Развалившись на диване, Устин уже держит вверх ногами раскрытую книгу, не забывая перелистывать её с нужной периодичностью, наблюдая поверх неё, как в перископ, за театром военных действий, а мысли его – о жене:
Она всё ещё красива, как некоторые женщины в пору увядания, осенней, тяжёлой красотой, у неё есть любовник, что ей надо, почему она не может отступить, разыгрывая второстепенную роль, по-прежнему исполняя супружеский долг, состоящий теперь в деликатном невмешательстве в чужую личную жизнь, где эта хвалёная женская приспособляемость, почему её притворства хватает лишь на то, чтобы скрывать связь на стороне, почему ей не сделать вид, что другой, её соперницы, не существует, на что она надеется, чего, собственно, добивается – его возвращения? – или она верит в чудо…
Устин переворачивает страницу.
За окном стучит дождь, капли, стекая по стеклу, размывают пейзаж, делая неясными очертания домов и деревьев. И в книге тоже льёт дождь. Устин неожиданно ею увлекается, читает, даже не переворачивая, так что строки для него складываются, как кирпичи на стройке, снизу вверх. «Каждый думает, что особенный и почти безгрешный, – водит он глазами справа налево, – но если заполнить мир его двойниками, они перережут друг другу горла». Устин соглашается. Герой в книге смотрит на дождь, висящий за окном стеной, кривым зеркалом, плющившим одиноких прохожих. Его мысли: «С возрастом организм изнашивается, может, поэтому, отстраняясь от него, от этого чудовища, во власти которого целиком проводишь юность, с особенной силой чувствуешь себя биороботом – встал, умылся, позавтракал, подумал, что за окном дождь, и надо надеть непромокаемый плащ, завёл машину, сел за руль, и тут потерял привычный ход мыслей, которые стали скакать, опровергая хронологию, цепляясь то к прошлому, то к будущему…» Устин опять соглашается. «На светофоре ты вспоминаешь историю своей жизни – работают дворники, смахивая одну картину за другой, а, попав в пробку, – двигаешься медленно, рывками, разглядывая лица в соседних авто, – приходишь к выводу, что никакой истории-то и нет, а есть набор разрозненных эпизодов, громоздящихся друг на друга, и произвольно всплывающих в памяти. От этого делается беспокойно, ты ёрзаешь на сидении, но к счастью тебя ждут дела, не терпящие отлагательств, без остатка поглощающие твои мысли. Так ты проживаешь в тумане отравленного сознания, за границы которого – ни ногой…» Устин едва улавливает сюжет, но ему интересно, что будет дальше, герой так похож на него, он пропускает иногда несколько абзацев, забегая вперёд, перескакивает вверх по странице, главу за главой, но там всё те же надоевшие сентенции и скучные рассуждения. Какое-то время Устин ещё ждёт, сам не зная чего, продвигаясь в море бессобытийности, которой ему хватает и в жизни, но ничего не происходит, да и не может произойти, разве жена взяв из рук книгу, перекладывает на тумбочку, заметив, что он спит с открытым ртом…
Может, дело в имени?
Nomen est omen?
Пусть она больше не будет Устиной Непыхайло. Нареку её именем той, которую увидел однажды во сне.
Устин вспоминает:
Во сне я умирал от одиночества. «Хочешь познакомиться с красивой девушкой?» – повернулся ко мне человек, как две капли похожий на меня. Я кивнул. Мы ехали мужской компанией в просторной машине. Человек, похожий на меня, много шутил. И все, кроме меня, смеялись. Машина неожиданно затормозила, на переднее сиденье впорхнула стройная, длинноногая девушка. Увидев её в водительском зеркальце, я мгновенно влюбился. «Ималата Гула», – не поворачиваясь, представилась она. Или это было приветствие?
Или эти слова ничего не значили? Но я понял, что за ними кроется что-то важное. «Ты прав, – согласилась моя копия, – кто их разгадает, тому она будет принадлежать». И тогда я стал думать! Из кожи вон лез, до боли в висках! Но в голову ничего не приходило. Крутилась какая-то чепуха, бессвязные сочетания: «Гулам, малуг, тумагли…» Остальные мужчины тоже делали попытки. Но девушка только смеялась. Я вспотел и, стараясь сосредоточиться, тёр лоб. Напрасно! «Ну, хорошо, хорошо, – похлопал меня по плечу двойник, – усилия должны вознаграждаться». И стал, как немой, шевелить губами. Впившись взглядом, я пытался по ним читать. Тщетно! От отчаяния я готов был расплакаться! Мне казалось, меня дразнят, а вся ситуация подстроена, чтобы выставить меня дураком. И тут я проснулся. Одинокий, как и во сне. Я кусал подушку, а в уме ещё перебирал слоги странного имени. И вдруг мне пришла мысль, что раз сон снился мне, то, стало быть, человек, похожий на меня, как и девушка, и вся компания, был частью моего сознания. Значит, я знал разгадку! Значит, ключ к ней сокрыт во мне!
О, Ималата Гула, я никогда не узнаю твоей тайны, ты, как судьба, которую в глубине все ощущают, но благосклонности которой не в силах добиться!
Устин морщит лоб.
Или нет?
Какая тайна у имени?
Имя – это удобство и привычка, как и всё остальное.
Пусть остаётся, как есть.
Итак, снова Устина.
Изменяет ли она Обушинскому?
Ничего серьёзного, пара мимолетных романов не в счёт. Это больше в отместку, с директором телеканала, всё вышло случайно, после корпоративной вечеринки, когда роковую роль сыграл лишний бокал игристого вина, минутная слабость, при незапертой двери прямо в соседнем кабинете, на столе, так что на спине отпечатались рассыпанные по нему канцелярские скрепки, а фиолетовые кляксы от фломастеров никак не смывались под душем, и их пришлось тереть пемзой. Это повторялось ещё несколько раз, больше по инерции, в местах более пристойных, гостиницах на ночь, и даже у него дома, когда жена улетала за границу, на постели, ещё помнившей её тело, Устина пересиливала брезгливость, не зная, зачем это делает. Может, ради карьеры? Однако на карьере это никак не сказалось. Другим был актёр, смазливый малый, моложе её на десяток лет, снимавшийся в любовных сериалах. Это длилось с полгода и тянуло уже на роман, грозивший во что-то вылиться, встречи носили регулярный характер, – и как только не замечал Обушинский? или замечал? – прерываясь его гастролями, когда Устину охватывала жгучая ревность, зная его пыл, она не сомневалась в существовании соперниц, и так и не поняла, кто кого бросил, расстались после бурной сцены с заламыванием рук и взаимных упрёков, едких, доведших до исступления, однако на удивление быстро. На следующее утро, проспав больше обычного, Устина не могла сразу вспомнить, что случилось вчера, а, вспомнив, облегчённо вздохнула. Вот и всё, в общем, ерунда, было и прошло, Мелания ничего не узнает, а поквитаться с Обушинским, наставив ему рога, входит в семейный прейскурант: око за око, зуб за зуб.